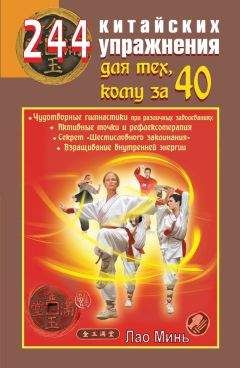Сатпрем - Мое пылающее сердце
И, к великому сожалению, те люди, для кого этот вопрос действительно подобен нужде дышать свободно, не имеют многого, чтобы удовлетворить ее, заполнить эту дыру -- потому что, на самом деле, это дыра. Это дыра, нечто, чего... катастрофически не хватает.
Товарницки: Люди чувствует себя жалкими, несчастными?
Да, все больше и больше. Действительно, это чудо нашего двадцатого столетия; в истории никогда не было более чудесного времени! Поскольку мы на самом деле начинаем подходить к настоящему вопросу и к необходимости настоящего ответа. Всего лишь двадцать пять лет назад люди были полны политических, экономических, метафизических иллюзий -- они бредили всей этой чепухой и шумно ее провозглашали, как если бы все со временем стало бы на свое место.
Да, теперь чудесно; у нас больше нет иллюзии, что все идет к лучшему. Мы подходим к настоящему вопросу. И, значит, к настоящему ответу, поскольку это одно и то же. Сам "вопрос" уже является ответом. Задать вопрос нужным образом -- нет сотни способов задавать его: вы спрашиваете своим сердцем, своим дыханием -- задать его нужным образом, то есть, воплотить его, БЫТЬ им нужным образом -- значит, уже получить ответ.
Это уже ответ.
Товарницки: Можно ли хотя бы выразить этот вопрос?
Думаю, что... выразить его -- это как раз то, что неправильно.
Товарницки: Для большинства людей это "В чем смысл жизни? Зачем я
живу?..."
Да, это всегда -
Товарницки: "Как мне следует жить?"
Да, сразу же начинаешь искать ментальный ответ. Но то, что нам на самом деле нужно -- это ответ другого порядка, нечто не имеющее ничего общего с моральностью, философией, религией и всем этим. Каждый из этих человеческих подходов пытается дать ответ или принести удовлетворение; и в ходе развития человека каждый подход может дать ему что-то. Но это не нечто, что может в самом деле Вас наполнить. Не это.
Товарницки: Возможно, нам не нужно вдаваться в детали, но иногда место играет свою роль -- Ваше бретонское происхождение, например. Сатпрем -- бретонец. Может быть, именно в Бретани, когда он был еще ребенком, в нем возник то самый первый вопрос, не получивший какого-либо ответа. Сегодня мы в голубых горах на юге Индии. Если я скажу "Сатпрем, Вы -- бретонец", будет ли это что-то для Вас значить?
О, конечно! Море отзывается во мне глубоким эхом -- как место, где для меня началось все. Я так часто чувствую это, и во всем, что я обрел на сегодня, в возрасте пятидесяти семи лет, я нахожу следы того, чем я жил, дышал, когда мне было шесть-семь лет от роду. И я жил этим там, в Бретани.
Товарницки: Где именно?
На море -- о, Вы имеете в виду географически? Так уж необходимы эти детали?
Все, что я могу сказать, это то, что это было не так далеко от Беле-Айла.
Так что, да, мое происхождение означает для меня нечто физическое... Но, на самом деле, для меня сама истина -- физическая, просто вот так. Я могу чувствовать ее лишь тогда, когда она пульсирует в моем теле.
Для меня состояние истины является тем состоянием, в котором ТЕЛО находится в гармонии, чувствует себя неограниченным. Ощущение свободы безо всяких границ. Тогда ты знаешь: это истинно. Все прочее -- просто текущие мысли; вряд ли они вообще интересны. То, что требуется, это жить ТЕМ постоянно, постоянно быть в состоянии истины, то есть, в состоянии гармонии, полноты. И люди не будут удовлетворены до тех пор, пока состояние истины не станет столь же простым, как воздух, которым мы дышим.
Я действительно удивляюсь, как... Весь этот западный образ жизни, в особенности, дает мне такое ощущение ГРАНДИОЗНОЙ искусственности. Я говорю не просто о машинерии, а об образе жизни людей: книги, мысли, немного эстетики; другими словами, как они более или менее заполняют свою жизнь. Все это, даже самое лучшее, кажется мне столь искусственным. Я повторяю: даже самое лучшее -- когда они рассматривают великолепные картины или слушают прекрасную музыку (хотя музыка может разрушать границы). Но все это мимолетно, видите ли. Это не глубокое, полное дыхание человеческих существ. Они живут как автоматы 23 часа 50 минут в сутки, и, возможно, всего лишь в течение 10 минут что-то происходит -- и то иногда.
Да, в ту минуту, когда я чувствовал утрату истины, как это и было -- то есть, когда я возвращался на сушу и сталкивался с конфликтами, людьми -- в ту минуту, когда я чувствовал утрату истины, нечто во мне АБСОЛЮТНО укоренялось в необходимости переживать то дыхание полным образом. Не просто в течение минуты или часа, пока я был в море -- переживать это ПОСТОЯННО.
И почему я не мог переживать это на суше?
Так что вот что вело меня этим образом в течение ряда лет, что заставляло меня искать по всем направлениям, искать любое... да, не лекарство, а возможно, и выход.
Товарницки: Иными словами, море явилось Вашим первым предметным
уроком?
О, в самом деле!
Товарницки: Когда Вы были ребенком?
Да, да -- море, пространство.
Религиозное воспитание: стены
Товарницки: Я хотел бы спросить вот что: читали ли Вы что-нибудь в
то время? И что читали? Несомненно, это была Библия! Конечно же,
была бретонская религиозная атмосфера! Наверняка были воскресные
службы, священник! Можно поговорить об этом?
Да, конечно же.
Товарницки: Прекрасно. Каким же был этот ребенок Сатпрем? Что он
читал? Или же он был неучем (смех). Действительно, возможно, это
был не "ребенок Сатпрем"...
Да, вероятно, это был Сатпрем.
Товарницки: Замечательно. Каким же был этот ребенок Сатпрем? Ходил
ли он в церковь? Получил ли он религиозное воспитание?
О, я не мог выносить это... Да, конечно, я имел религиозное воспитание. Мой отец был очень религиозным человеком -- благодаря ему я получил отвращение к религии раз и навсегда.
Я чувствовал себя как в тюрьме.
Товарницки: Даже в церкви?
Скорее из-за позиции моего отца -- и, следовательно, в церкви. Я чувствовал, что они пытались нахлобучить нечто на меня. И всю свою жизнь,, начиная с раннего возраста, я никогда не мог переносить ощущение ограничения чем-то.
Это была реакция... в самих моих хромосомах (не знаю, где, но...). Чувствовать себя заключенным было невыносимо. Я не мог переносить религиозное влияние моего отца, моей семьи (они послали меня в иезуитскую школу), и я возненавидел религию. Я ненавидел все, что заточает тебя.
Церковь означает здание. А по мне, идти в какое-то здание и сидеть там означало первую ложь. Я чувствовал жизнь, когда не было границ, понимаете ли; тогда во мне устанавливался определенный ритм, в котором я чувствовал себя непринужденно. Так что те стены -- с равным успехом это мог быть храм, мечеть или что угодно еще, но для меня это было одно и то же!
Для меня все, что заключает тебя в пределы четырех стен, было первым шагом на пути ко лжи или удушью. Это все.
Концлагеря
Товарницки: А затем были концлагеря.
О, да... Это была жестокая милость, дарованная мне. Как раз потому что я имел такую потребность в... истине -- "истине", да, не знаю, какое слово использовать. Или, скажем, потребность БЫТЬ. Да, потребность быть.
Я думаю, что из-за этой потребности мне и была дарована милость -жестоко -- прикоснуться к настоящему ответу!
Товарницки: Благодаря концлагерям твое сердце с чем-то соприкосну
лось?
О, в некотором смысле они чудесно мне помогли -- они вдребезги разбили во мне все человеческие ценности. Все было изорвано в клочья, опустошено. И не только тем, что я видел, но и тем, что прошло через меня. Мне было всего лишь... двадцать, только двадцать, когда я попал в концлагерь.
Товарницки: Как это произошло, Сатпрем? Вы были арестованы гестапо
из-за того, что были участником Французского Сопротивления?
Я был арестован гестапо.
Да, без предупреждения. Нас предали. В наши ряды затесался человек из немецкой контрразведки, а мы не знали об этом. И когда узнали, меня послали предупредить некоторых наших товарищей или агентов. Но тот человек, которого я предупредил, тоже оказался предателем! Я пришел и сказал ему: "Будь осторожен, нас предали", а этот человек также был предателем! Поэтому, как только я вышел из его дома, он тут же позвонил в гестапо. Не успел я отойти и на 500 футов от его дома, чтобы взять такси, как машина из Криминальной Полиции резко затормозила передо мной. Вышли два человека, пистолеты в руках, и арестовали меня на месте.
Да, это очень похоже на кино. Но...
Товарницки: Куда они Вас отправили?
Они посадили меня в тюрьму. И тогда это началось.
Это не те вещи... Это не те вещи, о которых следует рассказывать.
Во всяком случае, все это разбило... разбило меня, чудесно меня ОЧИСТИЛО -- страшно, но чудесно. Ведь сколько же лет могло мне потребоваться, чтобы избавиться от всех этих социальных, семейных, интеллектуальных, культурных одеяний -- всего того, что нагромоздилось на меня за двадцать лет?
Да, все то, что нагромоздилось на меня, было разбито вдребезги, включая меня (то, что я думал, что было мною).