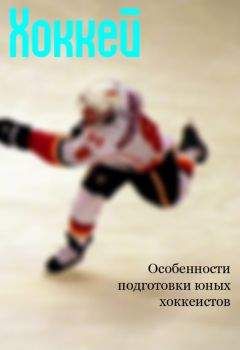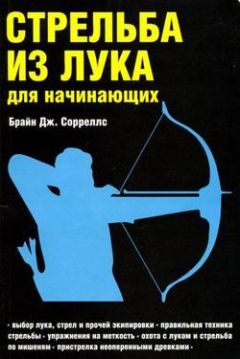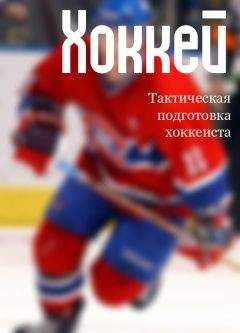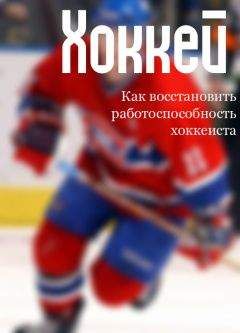Олег Белаковский - Эти настоящие парни
Вчера откапывали завалы разнесенного на куски дома. Страшно вспомнить. Страшно вспомнить это тихое тиканье женских часиков, отсчитывавших жизнь после смерти. Нашу жизнь после чьей-то смерти. Всю войну будет преследовать меня это тихое тиканье, заглушая взрывы и стоны…
Восемь вечера. Город погружается в темноту. Темные окна как черные впадины пустых глазниц. Гулкие шаги патрулей. Гулкий стук наших сапог.
Мы подходим к Финляндскому вокзалу. Вокзалы военного времени – пожалуй, одно из самых тягостных зрелищ. Я повидал их множество. Тыловых, прифронтовых, фронтовых. Но первым был для меня Финляндский вокзал в Ленинграде. Толпы женщин с плачущими детьми, старики с какими-то потускневшими, серыми лицами, мешки, рюкзаки, чемоданы – все колышется огромной густой массой то в одну, то в другую сторону или, вдруг забывая о себе, о дороге, о треволнениях, замирает у репродукторов. Кольцо вокруг города сжимается все туже. 8 сентября немцы перережут железные дороги, кольцо блокады сомкнётся. Остаются считанные дни. Люди не знают, не окажется ли их поезд последним, и не последним ли был поезд, который ушел накануне. Ленинград в сентябрьские дни сорок первого года – это уже по существу фронт. И все-таки, услышав позывные, человек опускал на землю чемодан, снимал с плеч ребенка и останавливался. Он слушал сводку с фронта и до последней секунды, даже здесь, на вокзале, жил тем, чем жил в эти минуты его город.
…Его выбросил нам навстречу все тот же людской поток. В первое мгновение мне показалось, что я обознался. Но раздавшееся почти в ту же минуту такое знакомое, такое радостное «Алик!» заставило меня рвануться к нему, забыв обо всем на свете, напрочь забыв, где и кто я.
– Севка, черт, откуда?!
Я жрал Бобра ненасытными глазами. Осунувшийся, поблекший, в поношенном демисезонном пальто, он показался мне каким-то погасшим. Пожалуй, единственным, что не изменилось в этом похудевшем и вытянувшемся парне, была его неизменная кепка.
Я ткнул его в плечо. Он ответил мне тем же. Ни он, ни я ничего и никого не замечали вокруг. Всего несколько месяцев прошло со дня последней нашей встречи в Сестрорецке. Но эти месяцы отбросили прошлое на сотни лет назад, и мы с трудом представляли, что мальчишки на «бочаге», на стадионах Сестрорецка и Ленинграда – это мы. И сейчас, стоя напротив друг друга, внутри людского водоворота, мы с Бобром жадно искали один в другом того Альку и того же Севку, которых, казалось, ничто и никогда не могло разлучить.
– Ты откуда?
Он как-то неопределенно мотнул головой и вместо ответа легонько подтолкнул меня.
– Давай выберемся отсюда. Мы стали пробираться к выходу.
– Ты давно из дому? – спросил я.
– Сегодня приехал и сегодня уезжаю.
Мне вдруг показалось, что Севка очень голоден.
– Слушай, у меня тут есть кое-что с собой.
Он вопросительно посмотрел на меня. Тут же, на ступеньке, мы разломили с ним полбуханки. Он разделил свою долю еще раз пополам и стал есть медленно, тщательно прожевывая. Он действительно хотел есть, и, как я уже понимал, последние дни ему приходилось туго.
Севка почему-то снял кепку, стал мять ее в руках. Ветер трепал чубчик совсем так, как трепал его на льду, когда Бобер несся наперерез мячу. Что-то на мгновение перехватило горло.
– Так как там у нас? – снова спросил я.
Бобер молчал. Смотрел на спешившую мимо нас толпу, на все эти мешки, чемоданы, на детей, укутанных в женские платки, на черную пасть вокзала, поглощавшую людской поток.
Ответил, так и не повернув головы, словно стыдясь посмотреть в глаза:
– Завод эвакуируется.
– Куда?
– Точно пока не знаю.
– Ваши едут с заводом?
– Конечно, куда отцу без него…
– А ты?
– Тоже с ними.
Он уже казался мне таким же, как и раньше. Только вот впали бледные щеки, и голос был тусклый, погасший. Он комкал в руках кепку и время от времени проводил широкой ладонью по волосам, но упрямый чубчик все равно продолжал стоять торчком.
– Неохота уезжать, – после долгой, тяжелой паузы произнес он. Потом поднял голову и оживился: – Но там все равно долго не пробуду. Подамся на фронт.
Сидя рядом с Бобром, я все еще был там, дома. И поэтому спросил:
– Кого ты видел из наших?
– Летом еще видел Маляра. Сейчас он на фронте.
– А Коновалов?
– Тоже в армии. Из наших почти никого не осталось.
Он похлопал себя по карману. Достал пачку «Явы». Мы закурили.
Бурлила площадь, звенели трамваи, и каждый час напряженная музыка площади у Финляндского вокзала переходила в четкий ритм позывных: «От Советского Информбюро. Сегодня после упорных и ожесточенных боев наши войска оставили город…»
Севка поднялся. Выплюнул чинарик. Крепко на двинул на лоб кепчонку.
– Хорошо, что увиделись. Теперь кто знает, когда еще придется встретиться.
Мне хотелось сказать ему что-то важное, то, что должно было остаться с ним. То, что не позволило бы нам потерять друг друга.
– Ты напиши мне. Слышишь, обязательно напиши. Пиши на адрес академии. Ее ты всегда разыщешь.
Он протянул руку:
– Ну ладно, давай лапу. Усмехнулся:
– Слушай, а может быть, еще когда-нибудь сыграем?… Если живы останемся…
«Сегодня после упорных боев наши войска оставили…»
– Может быть, и сыграем…
– Ну будь здоров!
Он сбежал по ступенькам.
– Севка! Постой!
Я подбежал к нему, открыл свой подсумок, вытащил из него банку консервов и колбасу – мой дневной рацион – и сунул все это Бобру.
…Он ни разу не оглянулся. Сбежал по ступенькам торопливо, словно спеша уйти от чего-то или спеша кому-то навстречу.
Часть меня самого отрывалась и быстро уходила прочь.
Стоя в тот день на ступеньках Финляндского вокзала, я чувствовал, что по ним сбегала вниз уходившая от нас юность…
ПАМЯТЬ, ОДЕТАЯ В КАМЕНЬ
Ночь с 19 на 20 ноября 1941 года. Все готово к эвакуации академии. Через несколько часов с одного из ленинградских аэродромов поднимется в воздух и возьмет курс на Вологду Ли-2. На борту самолета тяжелораненые и мы, молодые курсанты, сопровождающие их. Город в кольце. Где-то внизу, в кромешной тьме, разрываемой время от времени лучами прожекторов, немцы, линия фронта.
В Вологде посадка в эшелон и долгий, бесконечно долгий путь через всю страну на восток к пескам Средней Азии. Плывущая вслед за нами и где-то впереди нас серая дымка. Обожженный металл, опаленный кирпич, черное кружево изувеченного каркаса. Странная, ушедшая глубоко внутрь жизнь…
Станции забиты товарными составами. Стоим часами, иногда сутками, пропуская на запад воинские эшелоны. Месяцами тянутся на восток теплушки. Люди привыкают не столько к перемене мест, сколько к мысли, что нары в холодных, продуваемых насквозь вагонах стали для них частью бытия между внезапно оборвавшимся прошлым и полной неизвестностью в будущем. В теплушках живут, рожают, лечатся, умирают…
Почему мы катимся вспять? Почему на восток, а не на запад? Доучивать полевую хирургию и инфекционные заболевания? Кому это нужно сейчас? Наше место там. Так почему же вспять? Почему?
На соседних путях товарный состав. Дверь теплушки приоткрыта. Запах отсыревшей, пропитанной мочой соломы, пота и картофельных очистков. Сквозь щели смотрят на меня огромные черные глаза. Мальчик или девочка – понять трудно: существо закутано в серую шерстяную рвань. В глазах – испуг, почти ужас. Озноб пробегает по коже. Я понимаю, что эти глаза уже никогда не обретут ни безмятежности, ни покоя. Ни через пять, ни через десять лет. Что же успел повидать на своем еще не начавшемся веку ребенок, прежде чем вот такими стали его глаза?
– Дядечка, – вдруг обращается он ко мне, – найдите моего папку и скажите ему, что мы с мамкой здесь.
Он не спрашивает меня, еду ли я на фронт. На мне военная форма, значит, я еду туда. Бормочу что-то нечленораздельное и спешу уйти, убежать от этого состава, тянущегося из Белоруссии. Спешу прочь от этих глаз…
Наш путь на восток – это временная передислокация между академической партой и фронтовым окопом. Мы все равно будем там. Но сейчас приказано – на восток. Кому это докажешь? Этому ребенку? Этой женщине, плетущейся с кипятком к своему пристанищу на колесах? Кто мог в ноябре сорок первого понять этот путь на восток? Если мы сами отказывались его понять и принять. Мы, уже в какой-то степени подготовленные к восприятию войны. Мы, чье присутствие на фронте было первейшей нашей обязанностью и потребностью.
Одно утешало: видно, там, на фронте, наши сражались не из последних сил, если нас, молодых и здоровых, везли на восток.
Мы ощущали эту мощь по тяжелому, напряженному стуку колес проходивших на запад составов. Мы читали ее в напряженной сосредоточенности тех, кому предстояло через несколько дней встретиться с фашистами образца 41-го года. Встретиться лицом к лицу.
Трудным был для нас, слушателей Военно-медицинской академии, этот путь на восток. И пытка эта длилась не день и не два. Она длилась неделями.