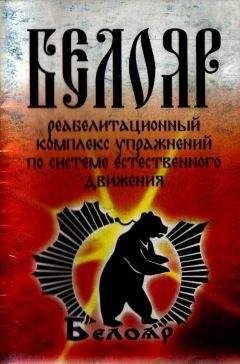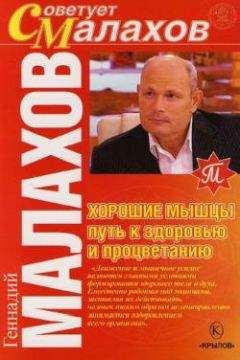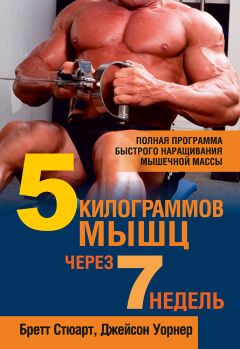Михаил Ромм - Я болею за «Спартак»
«Горячие порывы у русских людей к открытию Северного полюса проявились еще во времена Ломоносова и не угасли до сих пор», — писал он в рапорте на имя начальника Главного гидрографического управления. «Мы пойдем в этом году и покажем всему миру, что русские способны на этот подвиг».
Разрешение было получено, но казна денег не отпустила: Совет Министров считал, что экспедиция носит непродуманный характер. Пришлось обратиться за помощью к частным лицам. Все это задержало экспедицию; шхуна «Св. Фока» отплыла из Архангельска уже к осени; добраться до Земли Франца-Иосифа не удалось, пришлось зазимовать у берегов Новой Земли. Только на следующий год «Св. Фока» достиг Земли Франца-Иосифа, намереваясь дойти до северной оконечности архипелага, до острова Рудольфа. Но Британский канал был забит льдом, и шхуна встала на вторую зимовку в бухте Тихой.
Весной Седов, опухший от цинги, отправился с матросами Пустошным и Линником в поход на полюс. Оставшиеся смотрели ему вслед, смотрели, как три упряжки собак и три маленьких черных фигурки, скользя на лыжах, исчезают в морозном тумане. Они знали, что Седов не вернется: тысяча километров до полюса, тысяча — обратно, по дрейфующему льду. Будь он даже здоров, будь у него хорошее снаряжение и достаточно продуктов он не достиг бы полюса. Это удалось только одному человеку — Роберту Пири, удалось после двадцатитрехлетних попыток. Но впереди Пири шли вспомогательные отряды, оставлявшие на его пути склады с продовольствием, его самого сопровождали эскимосы, умеющие за час построить из вырезанных в твердом снегу пластин иглу — снежную хижину, где можно переночевать и переждать непогоду.
Товарищи отговаривали Седова от похода, но он был глух к их уговорам. Полюс был его заветной мечтой он манил его, как завороженного. И даже когда через несколько дней цинга свалила его с ног, он думал только об одном: на север, на север! Лежа на нартах, он то и дело вынимал компас, чтобы удостовериться, что Пустошный и Линник не повернули обратно. Матросы похоронили Седова у мыса Оук, южной оконечности острова Рудольфа, и, теряя последние силы, вернулись в бухту Тихую.
Летом бухта освободилась ото льда, и седовцы тронулись в обратный путь. Уголь кончился, в топку шхуны летело все, что могло гореть: обшивка кают, койки, столы, переборки, моржовые шкуры.
В сентябре 1914 года «Св. Фока» вернулся в Архангельск. Шла война с Германией, на прибывших никто не обращал внимания... кроме кредиторов. Они настояли на том, чтобы все оставшееся на корабле имущество было продано с молотка. Да еще военный министр Григорович увековечил себя изречением: «Жаль, что Седов погиб: я отдал бы его под суд за опоздание из отпуска».
Ценные научные материалы, собранные экспедицией Седова, были обработаны только в советское время. Главное гидрогеографическое управление отказалось от их обработки на том основании, что «в тех местах нет судоходства»...
...Мы собираемся с Пинегиным ехать на лодке к скале Рубини: Николай Васильевич хочет побывать везде, где он был семнадцать лет тому назад. Приглашаем с собой Папанина, но он отказывается. С того дня, как мы пришли в бухту Тихую, он развил бурную деятельность, с головой ушел в жизнь зимовки, изучил на ней все. Он уже знает, что в магнитном павильоне нет ни куска железа, что он весь собран на медных гвоздях, иначе наблюдения будут неверны: он уже выяснил, почему ветряной двигатель работает с перебоями, узнал о жестоких собачьих драках полярной ночью, после которых к весне заметно редеет лохматая стая, и уже нашел выход: надо приметить главных забияк и сажать их на цепь. Он представляет себе, какая это неприятная работа — выкалывать ломом замерзшую уборную: надо сделать выдвижные ящики и просто увозить их на нартах подальше и бросать в полынью. Жилой дом, по его мнению, тесноват, не у каждого есть отдельная комната. Между тем, в долгую шестимесячную ночь у некоторых пошаливают нервы, и хочется быть одному.
— Главное что? — убеждает меня Папанин. — Создать условия для этих ребят: пусть науку двигают.
Ясно: еще одного пленила Арктика, и ему уже не вырваться из ее плена...
Папанин остается на зимовке, а мы с Николаем Васильевичем и двумя матросами идем на шлюпке к скале Рубини, пересекаем полукруглую бухту прямо по хорде. Позади нас стихают людские голоса, лай собак, тарахтение ветряка. Только плещется негромко вода под веслами да поскрипывают уключины. Оглянешься назад — зимовка уже едва виднеется, посмотришь вперед — скала Рубини, отраженная в воде и потому вдвойне высокая, — все так же далека: первозданная прозрачность воздуха скрадывает расстояние.
Стайки маленьких птичек — чистиков — сидят на воде и с любопытством поглядывают блестящими черными бусинками глаз на нашу лодку. Они сидят неподвижно — лодка вот-вот подомнет их под себя. И тогда они не взлетают, а стремительно ныряют, сильно и быстро работая морковно-красными лапками. Они исчезают под водой, а затем снова появляются на поверхности, рассаживаются тесной стайкой впереди лодки и, наклонив головки, лукаво поглядывают на нас. Лодка приближается, и они снова ныряют. Эта игра им, очевидно, нравится. Нам — тоже: уж очень они забавны, эти милые пичужки. Скала Рубини в конце концов все же приближается. Слева от нее полого уходит в глубь острова снежный склон ледника Юрия. Лодка врезается в гальку, мы выскакиваем на берег. Подъем по склону крут и труден. Карабкаемся, хватаясь руками за выступы базальта. Взбираемся на плоскую, как стол, вершину. Вид отсюда еще беспредельнее, чем с площадки на мысе Седова. Позади вырисовываются в небе два куполообразных ледниковых щита острова Гукера.
Пройдет осень, солнце скроется за кромкой горизонта, полярная ночь накроет звездным пологом и скалу Рубини, и куполы глетчера, и бухту, и зимовку. От жилого дома к радиорубке, к магнитному павильону, к складу, к бане протянут канаты, чтобы, держась за них, не плутать в кромешной тьме и не быть унесенными ураганом. Зимовщики будут выходить на крыльцо приземистого домика и подолгу наблюдать, как северное сияние сплетает и расплетает свои огненные ризы. Они будут мечтать о Большой земле, о своих близких, о «настоящей» жизни. Но, вернувшись домой, вскоре снова услышат властный зов севера. Они уже — «кадровые» полярники...
5 По островам архипелага
...Трюмы «Малыгина» пусты. Шлюпки подняты на палубу. После прощального обеда в кают-компании ледокола зимовщики съехали на берег и выстроились с винтовками у причала. Вращается брашпиль, и мокрый якорный канат — по-нашему, по-сухопутному, якорная цепь — вползает в клюзы, вытягивая из воды большие, разлапистые якоря. Они неподвижно повисают у бортов. Звонит машинный телеграф, вращаются лопасти гребного винта, пенные буруны бегут от кормы. Ледокол разворачивается. С берега доносится прощальный залп из винтовок, второй, третий. «Малыгин», развернувшись, идет к проливу Мелениуса. Домики и люди на берегу отступают в глубь бухты, сливаются с серыми валунами. Только доктор зимовки Кутляев провожает на моторке ледокол. Нагнувшись вперед, он не отрывает от него глаз, словно вместе с ним что-то уходит из его жизни.
«Малыгин» ускоряет ход, моторка начинает отставать, она уже далеко, но Кутляев, по-прежнему держа одной рукой румпель, прощально машет нам вслед. Лодка превращается в едва заметную точку, а затем слева наплывает плоская громада Скотт-Кельти. Прощай, бухта Тихая...
Начальник зимовки Иванов идет с нами. Остальных сменит пароход «Ломоносов», пробивающийся где-то в Баренцевом море сквозь льды.
«Ломоносов» грузился в Архангельске рядом с «Малыгиным». Когда трюмы были заполнены, на палубе стали расти штабеля ящиков, мешков, каких-то металлических предметов. По сходням провели на поводках на пароход десятка четыре ездовых собак с Камчатки. Вожак, крупный, поджарый, с разодранным ухом и шрамами на морде, шел особняком, приглядывая за порядком. Его на поводок не брали: нельзя — обидится, забастует.
Грузили живой скот. Коровы, жалобно мыча, покорно поднимались на палубу. Бык заартачился, уперся на середине сходен. Ему накинули на рога канат и стали тянуть — сначала вдвоем, потом вчетвером. Бык не двигался, стоял как вкопанный. Тогда завхоз из нового состава зимовщиков подошел к нему сзади, одной рукой ухватил хвост у самой репицы, а другой — пониже и стал крутить, словно ручку шарманки. Бык дико взревел и в три неуклюжих прыжка оказался на палубе. Вот уже не думал я, что выражение «накрутить хвоста» имеет не только фигуральное, но и прямое значение.
Завхоза звали Фридрих Ницше. Совпадение имен было неожиданным: что могло быть общего у завхоза советской зимовки, рослого, спокойного латыша, с реакционным немецким философом? Вряд ли энергичное кручение бычьего хвоста могло считаться применением лозунга «падающего подтолкни», который проповедовал настоящий Ницше: бык отнюдь не был падающим, он крепко стоял на ногах... Потом я узнал, что фамилия Ницше нередко встречается у латышей.