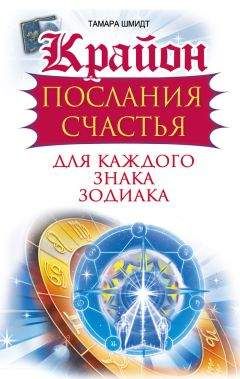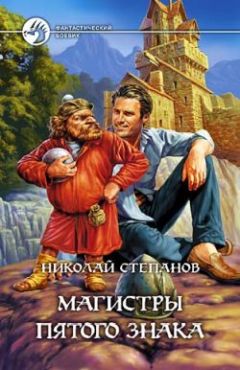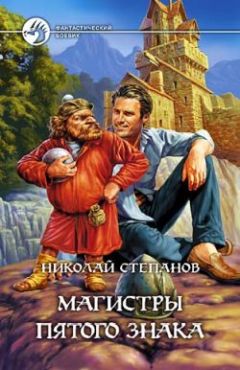Александр Вадимов - От магов древности до иллюзионистов наших дней
Привилегированная публика на народных гуляньях не бывала, поэтому балаганных представлений и русских иллюзионистов не видела и не хотела видеть, а судила о них понаслышке, считая низкопробным зрелищем, оскорбительным для утонченного аристократического вкуса.
Эта публика, посещавшая только выступления иностранных эстрадных артистов да спектакли французской, итальянской и немецкой трупп, не бывала даже на представлениях русского профессионального театра, не видела выдающихся русских актеров — Дмитревского, Яковлева, Плавильщикова и других. О ее взглядах на русский театр красноречиво говорит запись светской беседы на французском языке, сделанная русским театралом С. П. Жихаревым:
«Когда сегодня за обедом… я рассказывал о произведенном на меня впечатлении трагедиею и Яковлевым, хозяин и хозяйка захохотали.
— Вы дитя: русская трагедия и какой-то Яковлев!
— Но вы когда-нибудь видели Яковлева?
— О, кто же пойдет смотреть ваших скоморохов…»[59]. В такой обстановке русский балаганный фокусник, как бы он ни был талантлив, не мог выдвинуться. В сравнительно лучшем положении находились так называемые русские немцы, уроженцы Прибалтаки. Их фамилии, звучащие по-иностранному, давали им кое-какие преимущества.
«Знаменитый Мекгольд, уроженец Митавский, именующийся в Германии на афишах русским человеком Ивановичем фон Мекгольдом», начал выступать в петербургских балаганах на пасхальной неделе 1834 года. Через год обозреватель балаганных развлечений пишет о нем в «Северной пчеле»: «Мекгольд, уже знакомый любителям замысловатых фокусов, морочит крещеный мир с проворством, достойным особого внимания. Как за ним ни глядите, а он все-таки успеет накласть вам в карман денег, в шляпу цветов, в руки кроликов, платков и всякой всячины. Что ни прикажете, все явится по единому слову фокусника-чародея».
Из другой заметки мы узнаем, что Мекгольд привешивает к губе приглашенного на сцену зрителя висячий замок, превращает вино в белую розу, показывает шарики, перебегающие из стакана в стакан… Словом, это манипулятор, отлично владеющий техникой своего искусства.
Проходит еще четыре года, и «Северная пчела» посвящает Мекголъду специальную заметку: «Все мы понимаем, что ни один из последователей Пинетти, упражняющихся в естественном волшебстве и увеселительной физике, не может сравниваться с Мекгольдом в проворстве и чистоте, с какими он делает свои фокусы… Непринужденность, с какой он морочит зрителей, удивительна… Штуки свои Мекгольд показывает на простом столике, под которым не может быть и тени помощника. Вся выгода его состоит в искусной болтовне; заслушаетесь, а он как раз и подменит вашу перчатку, платок, часы или перстень — и пошла потеха! Нечаянностям и сюрпризам нет конца…»
Из этой короткой рецензии видно, что перед нами не рядовой ремесленник, а настоящий артист. Мекгольд выступает в частных домах, но продвинуться выше ему не удается: он не рискует снять зал в центре города и добиваться приглашения на императорскую сцену или ко двору.
О другом таком же иллюзионисте из русских немцев, Апфельбауме, упоминают Лермонтов и Салтыков-Щедрин. Изыскания советского исследователя Л. Прокопенко позволили установить облик Апфельбаума и его репертуар[60].
Этот старый немец с длинными волосами по плечи, во фраке и с большим жабо в 1837 году снимает на один вечер помещение «кисловодской ресторации», как пишет Лермонтов; там он дает свое представление. В 1836 году он дважды выступает в Москве, в Малом театре, а в 1841 году — в Петербурге. И здесь он работает уже не в балагане, а «на театре», и «есть ли кому угодно будет пригласить его для домашнего представления, то можно адресоваться к нему», как гласит объявление в «Санкт-Петербургских ведомостях».
Репертуар Апфельбаума типичен для рядовых иллюзионистов того времени. Он работает у большого стола, под которым сидит помощник, скрытый длинной скатертью. Глотает шпаги, показывает карточные фокусы. Проделывает трюк Пинетти, который затем повторяли в России Молдуано и Собер: заставляет находить исчезнувшие предметы по адресам, указанным зрителями. Превращает двугривенный в апельсин, а апельсин — в золотую монету.
Особой художественностью исполнения и актерским обаянием Апфельбаум, судя по всему, не отличался. Но недостаток художественности искупается предприимчивостью. Чтобы обеспечить сборы, иллюзионист бесплатно, как бы невзначай проделывает трюки на улицах, привлекая к себе внимание прохожих. Он ловко вынимает у извозчика из носа картофель, запирает висячим замком губы ротозея, выпускает из рукава голубей. Подражая Пинетти, ломает у пирожника пироги, в которых находит червонцы…
Русским иллюзионистам даже такие проделки не могут помочь выбиться за пределы балагана и снискать внимание привилегированной публики. Иллюзионист Шандиков, «волшебный и физический художник», выстроил свой балаган в Петербурге на Мойке, в одном дворе с очень хорошо посещаемым театром механических кукол и панорамой. Уже одно то, что Шандиков не боялся таких сильных конкурентов, свидетельствует о качестве его программы.
Из заметок о Шандикове мы узнаем, что он «кушает хлопчатую бумагу, которая потом исходит у него изо рта огнем и разноцветными лентами (трюк, еще сегодня исполняемый в лучших мюзик-холлах мира итальянским иллюзионистом Р. Ситта. — Авт.), превращает вино в бутылке в голубя, снимает с кума своего… рубаху, не расстегивая ему сюртука…».
«Северная пчела» 8 февраля 1833 года отмечает занимательность программы Шандикова и успех, которым он пользуется у демократической публики. И все же верноподданническая газета Фаддея Булгарина не может удержаться от пренебрежительных комментариев, она упоминает о русском иллюзионисте для того, чтобы сравнением с ним лишний раз охаять передовую русскую литературу. «Словом, — пишет газета, — он представляет Филадельфию, Пинетти, Боско, Молдуано в малом виде, как некоторые поэты играют в Байроны, в Ламартины, в Вальтер-Скотты, — иногда довольно удачно, особенно для публики невзыскательной, которая рада позевать и посмеяться».
Нередко печать попросту опускает имена русских иллюзионистов и конструкторов автоматов. Об их выступлениях упоминают вскользь, говоря только, что выступал «русский фокусник», «наш доморощенный…». Таким образом, десятки талантливых артистов и конструкторов иллюзионной аппаратуры, выступавших в балаганах, остались безвестными. Между тем еще Добролюбов спрашивал, обращаясь к законодателям вкусов своего времени: «А почему же вы так презрительно относитесь к балаганам?.. Относительно роли балагана в истории театра и в деле народного развития мы еще с вами поспорим…»[61].
Чтобы как-то утвердить свое положение в обществе, русские иллюзионисты выступают под иностранными псевдонимами. Но порой и это не помогает. Одного из таких артистов «Отечественные записки» тоже презрительно называют «наш доморощенный магик Принчипе».
Показательна судьба наиболее удачливого русского иллюзиониста второй половины прошлого века — Николая Александровича Козлова. Он родился в Одессе в 1845 году. Гимназию не окончил по болезни. Увлекался конструированием иллюзионной аппаратуры, и некоторые из своих изобретений продавал иностранным гастролерам, приезжавшим в Одессу; надо полагать, что они были достаточно оригинальны и остроумны.
Козлов был сперва иллюзионистом-любителем, показывал фокусы в кругу своих знакомых. С 1869 года начал выступать как профессионал. Турецкий купец, видевший одно из выступлений Козлова, уговорил его ехать вместе с ним в Константинополь. Там русский иллюзионист в 1870 году удачно дебютировал на сцене султанского театра и был приглашен на торжества по случаю открытия Суэцкого канала. Турецкий султан Абдул-Азиз-Эффенди, присутствовавший на одном из представлений Козлова, наградил его серебряной медалью «Меджидие». Во многих странах русский артист получил ценные подарки и ордена, что свидетельствует о высоком уровне его выступлений.
Но вот Козлов возвращается в Россию, «желая приобрести в своем отечестве известность», и, несмотря на свои зарубежные успехи, встречает довольно сдержанный прием: он ведь свой, русский-Козлов не жалеет сил и средств, чтобы обратить на себя внимание. Перед нами безграмотное свидетельство, выданное севастопольским полицмейстером в 1894 году: «Сим считаю долгом засвидетельствовать, что благодаря доброму артисту, внимательному престидижитатору Н. А. Козлову успешно выполнено им в г. Севастополе 1-го октября представление и поступило от него в пользу голодающих в местах, пострадавших от неурожая, 196 р. 70 к.»[62]. Но ни гражданские заслуги, ни творческие успехи Козлова в течение четверти века артистической деятельности в России не помогли ему пробиться на сцену столичных театров.