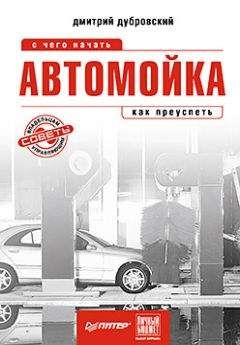Мариэтта Чудакова - Беседы об архивах
Он взглянул на черновик не как на бесформенную груду разобранных и неразобранных слов и отрывков фраз, а на некий по-своему целостный, связный, только еще не прочитанный текст. Он выдвинул важнейший тезис читать черновую рукопись нужно в той последовательности, в какой она писалась автором. Только такое чтение дает возможность увидеть беспорядочные записи в разных местах листа как следы единого процесса, единого движения автора к законченному тексту стихотворения. Оно помогает прочесть и те слова, которые не могут быть разобраны иным путем. С. Бонди заметил, например, что "у Пушкина (да, вероятно, и не у одного Пушкина) есть манера: если какое-нибудь слово ему приходится писать несколько раз (например, зачеркивая и снова повторяя его), то во второй, третий и т. д. разы он пишет его вовсе неразборчиво: ему надоедает несколько раз писать это слово, и он вместо слова пишет нечто совсем неясное" - иногда даже заменяет их чертой, линией!
Понятно, что отдельно прочесть это нельзя, но, дойдя до них в порядке последовательного чтения (если последовательность работы автора понята правильно), можно догадаться, что это восстановление слова, ранее зачеркнутого.
Задачей исследователя новой текстологической школы стало не изучение "топографии" черновика, а расслоение его на пласты временные - он стремился вычленить в перечеркнутой несколько раз строке вариант предшествующий и последующий, понять, каким текстом и в какой момент работы заменено было зачеркнутое.
Догадка исследователя, его интуиция при таком чтении приобретает еще большее значение, чем при подходе статическом, сводящемся в конце концов к разгадыванию начертания букв, - ведь теперь все его усилия соединены в следовании "за мыслями великого человека", что есть, по словам Пушкина, "наука самая занимательная". Здесь-то и место нежданным озарениям, восстанавливающим вдруг целую пушкинскую строку. "Встретившись на какой-то пушкинской конференции в Ленинграде с Б. Томашевским, - рассказывает С. Бонди, - я стал жаловаться ему, что не умею прочесть одного слова в рукописи Пушкина.
Снимка с рукописи у меня с собой не было, и я сказал ему вслух этот пушкинский отрывок. Когда я прочел три последних стиха
...Ликует русский флот - широкая Нева
Без ветра в ясный день глубоко взволновалась,
Широкая волна плеснула...
- ...в острова, - тотчас закончил Томашевский.
И это было совершенно верно. И вид рукописи потом вполне подтвердил это.
Б. В. Томашевский, насколько мне известно, не изучал до этого времени рукописи, о которой идет речь.
Просто он, давнишний петербуржец, внимательно слушая строки Пушкина, ясно представил себе, как громадная волна, образовавшаяся от скатившегося со стапелей тяжелого корабля, выплеснулась на низкие берега Невы. А Петербург чуть не весь стоит на островах - Васильевском, Петербургской стороне, Аптекарском, Петровском, Каменном, Вольном и др... Поэтому вполне естественно ленинградцу Томашевскому сразу пришло в голову недостающее по смыслу, стихотворному размеру и рифме слово...
Широкая волна плеснула в острова.
- Значит, рукопись - это не просто подсобный материал для текстологов-издателей, для тех, кто умело извлекает из нее новые, неизвестные прежде строки поэта, первоначальные редакции страниц известного романа...
- Рукопись открывает нам не только самый текст, но и процесс его создания. Она приподымает край завесы, опущенной над благословенным даром, посланным человеку, - способностью к творчеству. Читая, а верней, изучая рукопись, мы как бы соприсутствуем при давно завершенном акте творчества. Разные рукописи в разной степени запечатлевают путь творческой мысли.
Живейший интерес к рукописям Пушкина объясняется не одним только значением для всех нас его поэзии, но и специфическими их особенностями: дело в том еще, что Пушкин (в отличие от многих поэтов) "сочинял свои вещи большею частью прямо на бумаге, во время писания их, и почти весь процесс создания им вещи получал точное отражение в рукописи, что делает его рукописи в высшей степени богатыми, содержательными и выразительными. Работа над ними крайне увлекательна.
Замечательно при этом, - пишет далее С. Бонды,- что при всей видимой беспорядочности пушкинских черновиков, если внимательно разобраться в том, как работал над ними Пушкин, мы увидим тот же необыкновенно ясный, благоустроенный, стремительный, лишенный всякого педантизма, всякой болезненности и уродства ум Пушкина, который сквозит во всех его произведениях и высказываниях. По своей естественности, внутренней закономерности, отсутствию неожиданных капризов черновики Пушкина (как и многое в его творчестве) приобретают своего рода классический характер".
Рукописи разных писателей, быть может, еще более отличны одна от другой, чем их книги. Это разные мироустройства. Есть рукописи, в которые невозможно проникнуть легко и быстро, которые требуют многих лет вживания в особые способы авторской записи, подолгу ожидают тщательной расшифровки. Грандиозные лабиринты представляют собой рукописи Ф. Достоевского. С непостижимой, потрясающей воображение быстротой писавшиеся главы "Подростка" (в начале месяца глава еще не начата, а в конце его уже отослана Н. Некрасову для очередной книжки "Отечественных записок") оставили в бумагах писателя особенные следы - намывы мощного напора мыслей, картин, готовых сцен, набрасывающихся наспех на уголках листов, на полях, между строк готового текста... В самих планах отдельных глав и всего романа, набрасываемых в разных местах рукописи, Б. Томашевский находил отпечаток "какой-то психологической поспешности, неудержимого и хаотического потока мыслей, эпизодов, замечаний и т. п."; в этом смысле они глубоко отличны от тщательно составленных тургеневских планов, сопровождаемых нередко подробными "формулярами" героев.
Одни писатели набрасывают сначала весьма приблизительные черновики, а потом поверх этого до конца дописанного текста наносят второй и третий, и текстологи впоследствии "снимают" один за другим эти слои, устанавливая последовательность редакции.
Другие же досконально обдумывают текст и лишь потом заносят его на бумагу. Так работал С. Есенин, а Ш. Бодлер даже подробно и ревностно обосновывал "правильность" такого именно способа работы. "Сначала много думайте, чтобы потом быстро писать: повсюду носите с собой ваш замысел на прогулку, в ванную, в ресторан... Я не сторонник густо испещренных поправками рукописей: это затемняет зеркало мысли".
Рукописи Ю. Олеши свидетельствуют, что он не мог набрасывать приблизительных черновиков, не мог двигаться дальше, пока не находил нужного слова.
О такой же особенности своей работы говорил А. Толстой, уверенный, как большинство писателей, в ее универсальности: "Иной раз по слабости душевной напишешь такое-то место приблизительно - оно скучно, фразы лежат непрозревшие, мертвые, но мысль выражена, беды как будто нет? Черкайте без сожаления это место, добивайтесь какой угодно ценой, чтобы оно запело и засверкало, иначе все дальнейшее в вас самом начнет угасать от этой гангрены.
Я всегда руковожусь чувством приязни и неприязни к бегущим строчкам. Скука - вернейший признак нехудожественности. Покуда предыдущее не сделано, я не могу идти дальше. Отсюда метод работы: я не пишу черновиков, не могу заставить себя набросать, скажем, рассказ вчерне и затем отделать его, - работа опротивеет, соскучусь, брошу. То, что написано, уже почти готово (исключая мелочей, длиннот, неудачно найденных слов)".
Черновая рукопись "Железного потока" состоит из многочисленных склеенных между собой кусков текста. Сам А. Серафимович пояснял: "Писал разбросанно, кусками. Не так, чтобы с начала с первой главы начал - и до конца по порядку. Нет. Помню, прежде всего написал хвост, последнюю сцену митинга. Вслед за концом я написал начало, которое также подверглось усиленной обработке... Когда конец и начало были уже готовы, нужно было их соединить... Середину я писал кусками: то одну сцену напишу, то другую, по мере того как они складывались в сознании. Несмотря на то, что в голове вся тема держалась полностью, почему-то не все сцены вставали с одинаковой яркостью, они не шли гуськом, вслед, в порядке друг за дружкой. Куски я потом постепенно склеивал и переклеивал... Переписал, потом по частям стал перерабатывать: возьмешь один кусок, переработаешь и вставишь".
Есть ли зависимость между способом работы и самой манерой писателя? Ш. Бодлер видел причину "многословности" и "скомканности" романов О. Бальзака в том, что он "невероятным образом исписывает и перечеркивает свои рукописи". Но вот оставленное очевидцем описание рукописи АН. Франса, прозу которого никак нельзя упрекнуть в тех же грехах: "Каждая страница была подскоблена, переправлена, изрезана ножницами. ...Он делал бесконечные исправления, изменял порядок фраз, находил новые переходы, разрезал свои листки на какие-то причудливые фигуры, ставил в начале то, что было в конце, вверху, что было внизу, и подправлял все кисточкой с клеем. Некоторые части, уже набранные, были написаны вновь, потом восемь или десять раз переделаны в корректурных листах".