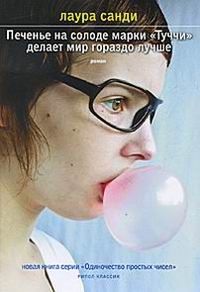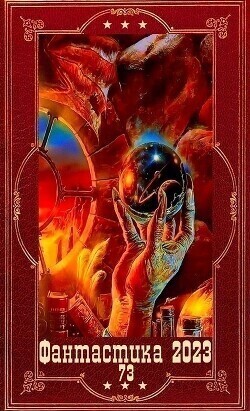Вкус. Кулинарные мемуары - Туччи Стэнли
21:15 по Гринвичу
Мы совместными усилиями прибираемся на кухне и расходимся: дети — в комнату с телевизором, мы с женой — в гостиную, чтобы почитать. Скоро я, скрипя коленями, поднимусь в спальню и буду планировать завтрашний ужин: куриные котлетки для малышей и ризотто с грибами для всех остальных.
***
С начала первого локдауна прошел почти год, и вот уже около полутора месяцев длится второй. Очевидно, первого было недостаточно. Однако теперь люди в большинстве своем соблюдают ограничения куда тщательнее. Продолжается выпуск вакцин, заболеваемость и смертность идут на спад, чему мы все, конечно, очень рады. В первые недели этого карантина все дети жили у нас дома (а Изабель еще и со своим бойфрендом), поэтому мы все так же покупали, готовили и поглощали огромное количество еды. Но теперь, чтобы сохранить рассудок, Николо вернулся в квартиру, которую снимает с друзьями в Брайтоне, и продолжает учиться онлайн, а Изабель переехала к бойфренду. Только бедняжка Камилла осталась с нами — со мной, Фелисити, Маттео и Эмилией. Со времени первого локдауна Эмилия уже научилась говорить целыми фразами (хотя мы понимаем далеко не все) и теперь, как и брат, непрерывно болтает. Очень смешно. (Никакой иронии, это правда смешно.)
Чтобы не сойти с ума, Камилла купила себе швейную машинку и частенько уходит в свою комнату «поиграть в шпульки». Подозреваю, что она тайно шьет воздушный шар, чтобы улететь от нас подальше. И я не могу ее осуждать. Недавно я заметил пропажу некоторых простыней и всех корзин Fortnum & Mason. Хм-м-м.
Теперь мы с Фелисити готовим всего лишь на пятерых.
Боже, это как-то даже слишком просто.
Ну, почти.
20
Терпеть не могу задерживаться в Лос-Анджелесе больше чем на пару дней. Мне там не понравилось с самой первой поездки, примерно тридцать четыре года назад. Конечно, там есть приятные районы, чудесные рестораны, там живут мои близкие друзья и родственники, но этот город не для меня. Мне не по душе вечное яркое солнце, отсутствие дождей и смены времен года.
Четыре года назад я приехал туда после почти пятилетней паузы, чтобы сняться в мини-сериале «Вражда». Я несколько раз летал из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы не оставаться там надолго, и все же съемочный график часто вынуждал меня задерживаться. Конечно, боль от разлуки с семьей была ощутимой, но еще сильнее оказалась острая боль в нижней челюсти. Она то появлялась, то исчезала, но в Лос-Анджелесе мне всякий раз становилось хуже. Я нашел там прекрасную дантистку, и она, хоть и не смогла точно сказать, в чем дело, попросила зайти, если боль вернется. В Лондоне мне удалили зуб мудрости — мой стоматолог предположил, что он рос слишком близко к соседнему зубу и проблему вызывали застревавшие между ними частицы пищи. (Я понимаю, что это неприятная картинка для любой книги, не говоря уже о кулинарных мемуарах, и приношу свои извинения.) Но боль лишь усиливалась. Дантистка из Лос-Анджелеса предположила, что у меня рак полости рта.
Услышав это, я чуть не упал в обморок. Кейт умерла после четырех страшных лет борьбы с опухолью, и при мысли о возвращении в ту реальность мне стало жутко. Стоматолог посоветовала мне срочно сделать снимок. Но вечером у меня был самолет, поэтому я решил, что сделаю это дома, в Англии.
Отчасти из страха, а отчасти из самонадеянного отрицания того, что у меня в принципе может быть рак, я постоянно откладывал визит к врачу. Тем временем боль становилась все сильнее, и я подсел на ибупрофен.
В течение следующих месяцев боль усиливалась, а вместе с ней росли и дозы ибупрофена. Я продолжал сниматься, но это становилось все труднее. Когда я вернулся в Лондон из Торонто перед Рождеством 2017 года, мне было больно как никогда в жизни. Фелисити настояла, чтобы я зашел к специалисту по раку слюнных желез. Он надел перчатку, раскрыл мне рот, заглянул в горло и секунд через десять сказал:
— У корня языка большая опухоль. Скорее всего, злокачественная. Вот что нужно сделать. Во-первых, снимок. Скорее всего, он покажет, что у вас рак, и мы узнаем, есть ли метастазы. Если будет возможно, вам сделают операцию и удалят опухоль. Потом будут лучевая терапия и химиотерапия. И скорее всего, несколько месяцев придется питаться через трубку в животе.
Этот доктор определенно не был образцом врачебного такта. Я снова чуть не потерял сознание.
Когда мы пытались вылечить Кейт, то объехали весь мир, встречались со множеством докторов и ученых, традиционных и не очень, — специалистов по «царю всех болезней», по определению Сиддхартхи Мукерджи34. Я изучал рак со множества разных точек зрения, и эти знания одновременно обнадеживали и пугали меня. В случае с Кейт стандартные методы лечения (химия, лучевая терапия и так далее) оказались столь ужасны и в то же время бесполезны, что я был твердо намерен от них отказаться.
Но опухоль оказалась такой большой, что просто вырезать ее было нельзя — иначе я остался бы без большей части языка и навсегда лишился бы способности нормально есть и говорить. Поэтому оставался один вариант: 35 дней высокодозной лучевой терапии и семь сеансов низкодозной химиотерапии. К счастью, каким-то чудом обошлось без метастазов, а значит, шансы на излечение по моему протоколу приближались к 90%, а вероятность рецидивов была крайне низка. Поэтому отказываться от стандартного лечения я не стал. Я прошел через все это, потому что обязан был пройти. Конечно, мне было очень страшно — и Фелисити тоже боялась, хоть и излучала уверенность. Она все делала правильно. Ведь она была беременна, мы как раз планировали переехать в новый дом, а еще у нас был двухлетний сын и трое детей-подростков. Ее стойкость, решительность и ум помогли ей составить оптимальный план и найти самых компетентных врачей, чьими стараниями развеялись наши страхи. Ее поддержка, любовь и терпение спасали меня в те дни — и спасают до сих пор, и в медицинских, и во всех других делах. Мне стыдно, что она недополучает от меня всего того же.
Я лег в нью-йоркскую больницу Маунт-Синай. Заведующий отделением доктор Эрик Генден назначил начальный курс лечения, а потом мною занялся доктор Ричард Бакст. При встрече с ним сразу стало ясно, что врачебный такт у него в крови. Но сколь бы добры и обходительны ни были он сам и его подчиненные, я все равно боялся утратить одну из главных ценностей в моей жизни. Я мог навсегда лишиться возможности есть, ощущать вкус и наслаждаться едой.
Как можно было предположить, что я добровольно откажусь от вкусов и запахов и соглашусь на такое унижение — питаться через трубку в животе? Последнего я боялся как огня. Со всем прочим я смирился, но только не с этим. Врачи терпеливо выслушивали мои бесконечные вопросы и опасения и отвечали: да, действительно, вам придется нелегко, вы утратите обоняние и вкус, а также способность к слюноотделению, но они, скорее всего, полностью восстановятся. Я им не верил. Ну, то есть верил — но не всегда.
Лечение
Для эффективного облучения головы и шеи узким пучком лучей нужно, чтобы эти части тела были абсолютно неподвижны. Пять дней в неделю, семь недель подряд мне на голову и плечи надевали специальную сетчатую маску, после чего их надежно фиксировали. В маске было отверстие, через которое вставлялся «прикусной валик»: я должен был сжимать его зубами, чтобы рот и язык тоже оставались неподвижными. Я начал понимать, что почти все самое важное делаю именно ртом.
После трех процедур у меня развился лабиринтит — крайне неприятный недуг, от которого я страдал и раньше. Он вызывает сильнейшее головокружение и тошноту, так что я не мог делать вообще ничего — только лежать и ждать, пока приступ пройдет. К сожалению, я совсем потерял аппетит: радиация сразу ударила по вкусовым рецепторам, слюнным железам, мягким тканям и микрофлоре рта. Через неделю лечения вся еда, которую я находил в себе силы прожевать, по вкусу напоминала мокрый картон. Еще через несколько дней — все тот же картон, но сдобренный экскрементами. Во рту у меня появились язвы, а слюна стала вязкой и ужасной на вкус. С каждым днем симптомы ухудшались. Запах любой пищи вызывал отвращение, потому что еда пахла не так, как должна была. Если я и решался что-то попробовать, то ощущал только худшие из всех вкусов.