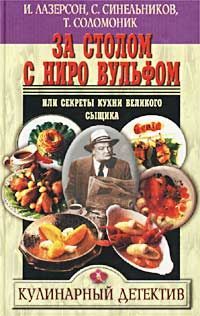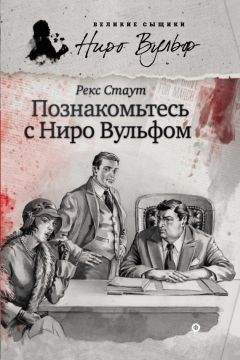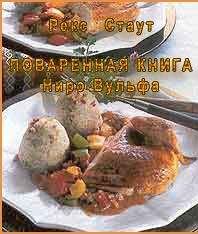Анн Ма - Француженки едят с удовольствием. Уроки любви и кулинарии от современной Джулии Чайлд
Несмотря на то что существует множество организаций по защите бушонов, эти заведения сильно пострадали за последние годы. Ни один из моих собеседников не хотел признавать процесс их исчезновения, но все сходились во мнении о том, что «настоящие бушоны» встречаются все реже. На мой вопрос к лионцам о том, ужинают ли они в бушонах, все отвечали одно и то же: да, но только когда к нам приезжали гости из другого города.
Только Эммануэль и Кристиан, ежемесячно посещающие машон с Братством, остались завсегдатаями бушонов. Однако даже они заявляли об этом с легким оттенком неуверенности. «Конечно, мы постоянно едим в бушонах – разве не видно?» – пошутил Кристиан, похлопывая себя по внушительной талии, и рассмеялся. Тем не менее в его неловкой улыбке проскользнул оттенок непостоянства потребления кухни бушонов, несмотря на его заявление о том, что «в Лионе свинину едят с любым блюдом, как овощи».
Так кто же составляет основную массу посетителей бушонов? Правильный ответ – туристы.
Возможность поесть в аутентичном бушоне является, вероятно, самым популярным развлечением в Лионе. И, как бывает в случае любого успешного предприятия, начали появляться имитации бушонов. Ив Ривуарон предупредил меня об этих подделках: «Существует очень много бушонов, которые не являются настоящими бушонами», – сказал он.
Ривуарон является владельцем Кафе де Федерасьон и бывшим членом Ассоциации по защите бушонов, которой больше не существует. Его бушон под названием «La Fédé» считается в Лионе чем-то вроде института, основанного, как гласит вывеска на окнах, «depuis bien longtemps» – очень-очень давно.
«Когда я начал управлять рестораном, предыдущий владелец сказал мне: «Соверши эволюцию, а не революцию», – сказал Ривуарон. – Я очень внимательно отношусь к сохранению аутентичности». Была середина дня – магическое время между подачей обеда и ужина, и мы сидели в пустом зале. Он показал на столы, покрытые клетчатыми скатертями и пергаментом, на голые люминесцентные лампы на потолке. «Но как же нам развиваться?» – спросил он. Под маской добродушного улыбчивого ресторатора скрывались глаза, темные от неподдельного беспокойства.
Для Ривуарона ответом на этот вопрос было расширение зала и увеличение часов работы ресторана. «Я подумываю о том, чтобы открываться по воскресеньям и в течение всего августа», – сказал он. Я знала, как нелегко дается такое решение французскому работодателю, особенно владельцу малого бизнеса, который мирится с финансовыми ограничениями, наложенными рабочей неделей длиной в тридцать пять часов. Работодатели платят за каждого сотрудника большой налог на социальное страхование, и многие из них не могут позволить себе нанять дополнительные рабочие руки. Тем не менее, объяснил Ривуарон, «нахождение в туристической зоне означает нахождение в индустрии услуг».
Некоторые обвиняют «Ла Феде» в том, что он слишком туристический, – утверждение, приводящее Ривуарона в негодование. «Мне не нравится отрицательная коннотация этого слова, – сказал он. – В наши дни туристы стали умными и начитанными. Мы рады им, однако это не значит, что мы не храним дух наших традиций».
Позже, прогуливаясь по изогнутым мощеным улицам около «Отель де Вилль», я задумалась над его теорией. Бушоны, казалось, были нагромождены на каждом углу, так и переливаясь старинным добродушием, однако лишь некоторые из них несли отпечаток аутентичности, тарелку Ньяфрона. «Несмотря на то что большинство посетителей составляют туристы, эти места все равно аутентичны. Да, это действительно так», – сказал тогда Ривуарон.
Однако, когда я задумалась о своих предыдущих отпусках, мысленно вернувшись к часам, потраченным на составление маршрутов вплоть до последней крошки авторского макарона[139], я не могла не поставить под сомнение его уверенность. Даже самые неприметные ловушки для туриста – будь то таблички на двери о входе и выходе, меню на английском или ярко-синие и желтые цвета путеводителя Рика Стивза[140] – могли превратить кулинарное открытие в банальность. Иногда казалось, что аутентичность – это такая же иллюзия, как сказочный единорог. И любящие поесть туристы с их раздраженным набором требований, начитавшиеся слухов и легенд в онлайн-форумах, намерены поймать таинственного зверя и записать его на цифровую камеру.
Возможно, подумала я, Эммануэль, Кристиан и Братство франкмашонов все-таки были правы. Может быть, выживание бушонов связано с выживанием машонов. Если бушоны существуют, чтобы в них подавали машон, тогда традиции машона следует поддерживать. Внезапное осознание того, что в девять утра было съедено три тысячи калорий, не выглядело как поощрение чревоугодия. Это было самопожертвование.
В Лионе мне больше всего нравилось есть в «Chez Hugon», бушоне, которым владели мать и сын (она обслуживала посетителей, а он готовил на кухне), где я ела чечевицу, украшенную беконом, и quenelle de brochet[141], которые выглядели, как маленькие футбольные мячи, и по текстуре были похожи на облака. В тот вечер в ресторане было почти пусто, так как был праздник с четырьмя выходными днями, и все же посетители предпочли сидеть тесной группой, вместо того чтобы равномерно распределиться по небольшому залу. В свете люминесцентной лампы, с бумажной салфеткой на коленях, я погрузила вилку в воздушную фрикадельку, поданную мне с фамильного сервировочного блюда, и почувствовала, что отдыхаю, слушая болтовню моих соседей. Этот зал напомнил мне о разговоре, в котором я участвовала в тот день с Жераром Траше, президентом Общества друзей Лиона и Гиньоля[142], лионской организации по сохранению традиций (да, еще одна). Я наконец поняла, что ощущаю настоящий дух бушона, где незнакомцы сидят «локоть к локтю», как описал Жерар.
Чтобы по-настоящему понять, что такое бушон, объяснял Траше, сначала нужно осознать, какая промышленная лихорадка захлестнула Лион с пятнадцатого по девятнадцатый век, когда город жил и дышал ради одного: шелка. Итальянские купцы завозили драгоценную ткань в течение пятнадцатого века; к восемнадцатому Лион поставлял рулоны тяжелой парчи и метры расшитых золотом лент по всей Европе.
Местные жители все еще называют холм Круа Русс, недалеко от которого раньше жили ткачи, a colline qui travaille – холм, который работает (сравните с примыкающим Фурвьером с его смотровой базиликой, который известен как la colline qui prie — холм, который молится). Этот район все еще несет отпечаток шелковой промышленности, с его квадратными помещениями, высокими потолками, построенными для того, чтобы вместить массивные ткацкие станки и секретные ходы под названием traboules, с помощью которых работники могли перемещать рулоны ткани, не выходя из помещения (десятилетия спустя Движение Сопротивления[143] также использовало эту секретную сеть проходов во время нацистской оккупации). Производство шелка было трудоемким процессом, требующим сил, навыков и часов тяжелого физического труда. Ткачи, которых называли canuts, существовали в условиях бедности, работая по четырнадцать часов в день за мизерную зарплату.
В XIX веке наверху пирамиды производства шелка в Лионе находились богатые купцы, называвшиеся soyeux, за ними следовала более широкая прослойка ткачей-мастеров, а за ними – тысячи рабочих, среди которых были подмастерья и женщины. Мир canuts редко соприкасался с миром soyeux, которые финансировали производство. Но все-таки было одно место, где буржуа и рабочие собирались вместе, чтобы поесть, выпить и пообщаться: бушон. Здесь вино текло рекой, все ели скромные блюда, такие как tablier de sapeur, то есть говяжьи рубцы в кляре, и мужчины обращались друг к другу на tu[144], а не на vous[145]. И хотя купцы и рабочие необязательно сидели вместе за одним столом, тем не менее они сидели локоть к локтю, и в этом зале они были друг другу ровня.
Со временем бушоны превратились в центры общения, где canuts встречались со своими коллегами, чтобы вместе насладиться утренним машоном, глотком вина и серьезной беседой о цене на шелк и о том, достаточной ли была компенсация за их работу, которая оплачивалась по количеству рулонов шелка. Так как цены на шелк устанавливали soyeux, то ткачи в большинстве случаев были бессильны. Тем не менее дела шли довольно мирно до 1831 года, когда экономический кризис ударил по Европе.