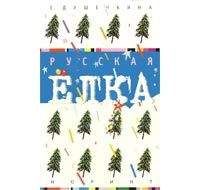Эдуард Лимонов - Это я – Эдичка
Удовлетворившись песней, по окончании которой вся поющая компания закусывает сигареткой марихуаны, я иду дальше, выхожу из парка к Студенческому Католическому центру и иду по Томпсон-стрит, вниз, где, проходя мимо мексиканского ресторанчика, разглядываю мимоходом не перестающие меня удивлять разнообразно-необычные шахматы в витрине шахматного магазина. Порой я иду левее, по Ла-Гвардии, где захожу в магазин тряпок. Его владелица – крупная белокурая полька – говорит с кем-то из посетителей по-польски. Я неизменно отвергаю ее помощь и разглядываю шляпы. Полька не злится, хотя я у нее никогда ничего не купил, а всегда только разглядываю. Особенное пристрастие у меня к белым вещам. Выйдя от польки, я пересекаю Хаустон-стрит, улицу скушную, захолустную как улица гоголевского Миргорода, но с двухсторонним движением, и спускаюсь в Сохо.
Как бывало, идешь по улице, а перед тобой идет необыкновенный горбун или человек, у которого на пол-лица лишай, то тебя, бедного нормального и скромного, уже никто не замечает. Так в Сохо. Человек, идущий по улице в рыцарских доспехах и как бы в стакане из американского флага, тоже меня не удивил. Никого он не удивил, разве что туристов из Оклахомы или Вайоминга. У них в диких степных штанах, как говорят, увидят длинноволосого или педераста, то изобьют непременно, как в России когда-то били людей, носивших узкие брюки и длинные волосы. Тут туристы ведут себя вежливо.
Содержимое галерей Сохо давно мне приелось. В Сохо я бываю со дня своего приезда в Америку. Деревянные велосипеды, деревянные пишущие машинки и деревянный же шопинг-бэг, или деревянное растение вместе с тоненькими, колеблемыми ветром листьями, так же как и скелет огромной рыбы – все это я равнодушно провожаю глазами. И художник – маленький японец, тоже сделан как бы из дерева, такие скулы, такое лицо, хрящеватые уши. Я привык к современному искусству еще в Москве. Добрая сотня художников были моими друзьями. Я не удивляюсь фотографическому циклу, изображавшему пробивание дыры в доме, поперечным разрезам комнат, видам справа и слева, сверху и снизу, и в довершение всего выставленному куску стены вместе со штукатуркой, я не удивляюсь. Мешки из тюля в галерее Кастелли – баснословно далекий когда-то из России Раушенберг вступил в свой салонный период. Куда больше нравится мне его работа в Модерн-арт на 53-й улице – брезент, железо, использованная автомобильная шина – все грубо и резко – в картине виден протест. Теперь Раушенберг мэтр, светило, его купили, его работы стоят огромных денег и естественно – вряд ли он сам это понимает – тюлевые мешки это его салонный период, пюи-де-шаванство, он стал светским художником, украшающим, благолепным. Мне жалко исчезнувшего из его работ брезента, грубой фактуры. Америка разделывается со своими художниками другими средствами, чем Россия. Впрочем, Россия тоже умнеет, и выставка моих друзей – крайне левых художников – в Правлении Союза художников СССР тому пример – управляющие русские учатся у своих американских коллег более современным гуманным средствам убийства искусства, а именно: хочешь убить художника – купи его…
Посетив все галереи, которые находятся в том же здании, что и галерея Кастелли, я обычно спускаюсь на Вест Бродвей. Бродят люди. Художников я всегда отличаю. Мне знакомы их лица, как и лица мордатых парней с Вашингтон-сквер. Это лица моих московских друзей художников. Бородатые, внешне одухотворенные, или напротив – неприметные, замученные ли работой или свежие и нахальные, они знакомы мне до ниточки морщин, так же как и лица их подруг – верных, прошедших с ними сквозь многие годы, и случайных, веселых спутниц по постели, выпивке и курению, не затронувших души, сегодня прибывающих, завтра уходящих. В апреле и марте мне хотелось жить в Сохо, я рвался туда, мне хотелось жить в небольшом доме, знать всех соседей художников, сидеть по вечерам на ступеньках этого дома, пить пиво, трепаться с соседями, завести прочные связи, мне так хотелось, но лофты чрезвычайно дороги, и тогда я не осуществил своей мечты. Сейчас, когда я стал спокойнее, я уже не хотел бы жить в Сохо. Я понял, что я очень изменился, что меня уже не удовлетворяет только искусство, и люди искусства, и то, что когда-то делало меня счастливым, тот богемный, веселый образ жизни уже невозвратен, а если бы мне удалось его сымитировать, это оказалось бы вскоре ненужным, раздражающим и злящим повторением уже виденного. Они эгоистичны, думаю я, тащась по улице и глядя на обитателей Сохо, они ищут успеха у этого общества, они циничны и замкнуты в своем кругу, плохо поддаются организации и, в конце концов, только часть этой цивилизации. В молодости они протестуют, ищут, негодуют в своем искусстве, а потом становятся столпами, подпирающими этот порядок.
Во что превратился Сальватор Дали. Талантливый художник когда-то – сейчас он старый шут, способный только украшать своей мумией богатые салоны. В одном из таких салонов я с ним и познакомился. Туда привели меня и Елену все те же Гликерманы – Алекс и Татьяна.
Дали сидел в красном углу, вместе со своим секретарем и какой-то девицей. Оказался он маленького роста, плешивым с нечистой кожей лица старичком, сказавшим мне по-русски: «Божья коровка, улети на небко, там твои детки кушают котлетки»… Это то, что говорят многие поколения детей в России, когда на руку к ним сядет насекомое, именуемое в просторечьи божьей коровкой, на крылышках у него пятнышки. Моя Елена была от Дали в восторге, он от нее, казалось, тоже, называл Жюстиной, чего она, поверхностно нахватанная отовсюду, в сущности, малообразованная девочка с Фрунзенской набережной, не знала. Ну, я, большой и умный Эдичка, конечно, сказал ей, что Жюстина – героиня одного из романов маркиза де Сада. Дали назвал ее «скелетиком». «Спасибо за скелетик», – сказал он Гликерманам; его секретарь, хуже меня говоривший по-английски, записал наш номер телефона и обещал звонить в определенный день.
Елена очень ждала звонка и хотя, к несчастью, заболела, но постоянно что-то нюхала, чтобы выздороветь, и говорила, что пойдет к Дали, даже если будет умирать, но он не позвонил. Мне было жаль расстроившуюся девочку, старый маразматик расстроил дитя, и она от отчаянья и насморка и болезни очень много и хорошо в тот вечер ебалась со мной, хотя это уже был период трусиков, заляпанных в сперме.
Все извращено этой цивилизацией, джентльмены в костюмах загадили и испакостили все. Продающиеся во всех магазинах литографии и офорты старых маразматиков типа Пикассо, Миро, того же Дали и других, превратили искусство в огромный нечистый базар. Им мало их денег, они хотят еще и еще. Им мало картин маслом и темперой, мало рисунков, акварелей и гуашей, так чтоб еще больше выколотить деньги, они делают свою халтуру на камне, и в сотнях и тысячах экземпляров пускают это в продажу. Негодяи, обесценившие все. Многие из них обременены женами и несколькими семьями, родственниками и друзьями, им нужно много денег. Деньги, деньги и жажда денег руководят этими старичками. Из бунтарей когда-то они превратились в грязных дельцов. То же ожидает сегодняшних молодых. Поэтому я перестал любить искусство.
Я боюсь в Сохо только улицы Спринг-стрит, где жил и живет он – первый любовник моей жены. Даже когда я гляжу на столб с вывеской «Спринг-стрит», меня мутит, в глазах играют блики, и состояние мое близко к тошнотворному. Приближаясь к Спринг-стрит, я стараюсь пропустить столб с названием, такое вещественное подтверждение моей боли и мук, моего поражения раздражает меня. Но порой я не успеваю вовремя закрыть глаза, и тогда это название разрезает мои глаза пополам. И, главное, душу, душу пополам режет. То же бывает, когда я еду в собвее, и название этой станции, яркое и выпуклое, внезапно выступает вдруг из темноты, может быть, пятнадцать раз повторенное, оно бежит за поездом, бежит, бежит… Она, Елена, как будто уже оставила своего Жана, но страшное название, наверное, заставит меня перевернуться и в гробу, до этого я не знал в жизни поражений, или они были несущественны.
Порой бездельный Вашингтон-сквер и затаившееся молчаливое Сохо надоедают мне, и я начинаю часто посещать Централ-парк, благо, он совсем под носом – пройти четыре улицы вверх, свернуть с Мэдисон на Пятую авеню, и я уже в Централ-парке. Обычно я иду до 67-68-й улицы вдоль парка и у детской площадки вхожу в парк. Я поднимаюсь по извилистой тропке в гору, захожу в ее дальний конец и ложусь, раздевшись, на горячие камни загорать. Это место в моем собственном географическом атласе называется Детская гора. Там я лежу, созерцая небеса и пентхаузы роскошных домов Пятой авеню, откуда торчат растения, и я предполагаю, какая там идет жизнь. Возле меня бегают дети, обычно это хорошие дети, попадаются и плохие – один мальчик, например, в течение более чем двух часов с дикой злобой ломал и рвал мой любимый куст на Детской горе. Я ничего не мог сделать, мне оставалось молча страдать, ибо рядом сидел отец этого кретина и поощряюще улыбался. Отец тоже был кретин. Когда они ушли, я встал и пошел расправил куст.