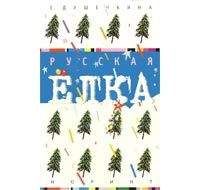Эдуард Лимонов - Это я – Эдичка
Поэт все норовит забраться именно на эту тумбу, потому я не знакомлюсь с поэтом, и так мы связаны с ним этой тумбой. Поэт ставит у своих ног кошелку-сумку, похожую на те, с которыми в 50-е годы ходили за покупками советские старушки – черную, грубую и клеенчатую. Он, не торопясь, копается в своей сумке – вынимает один листок и начинает читать. Читает он с выражением, с жестикуляцией. Голос у него хриплый, энтузиазма много, но ему далеко до московского визгливого, рыдающего и причитающего говорка Леньки Губанова, берущего начало, может быть в северных русских плачах. «Не тянет», – с превосходством думаю я…
Поэт читает, кое-кто даже приглушает слегка свои транзисторы. Чередуя с копанием в сумке, поэт прочитывает 10-15 стихотворений и потом сидит, пьет из бутылочки вино и разговаривает с желающими поговорить слушателями, порой давая хлебнуть вина и им. Он хороший парень, это видно, ему лет 45, и без него Вашингтон-сквер опустел бы для меня .
Пролежав часа три-четыре, послушав все разговоры вокруг, изредка завлекаемый девушками, клюнувшими на мою прекрасную загорелую фигуру, которые девушки, как вы знаете, притягивают меня и отталкивают одновременно, потому я их боюсь и два-три сближения не состоялись. Я «обосрался», увы, хотя дал себе слово использовать все случаи, вступать во все контакты. Полежав, я встаю и перебираюсь в другое место – куда-нибудь на травку, под куст, но опять-таки почти всегда на солнпе, иногда лишь в тень, и наблюдаю, если приезжает колесница Рама-Кришны, танцующих под бубен членов этой секты. Я всех их знаю в лицо, знаю, кто лучше, кто хуже танцует и бьет в барабан или бубен, умиляет меня их мальчик, тоже в оранжевом марлевом одеянии. Когда-то я подумывал пойти к ним жить в их общину, подумываю и до сих пор. Наверное, мое честолюбие не дает мне осуществить этот замысел. Впрочем, все еще может быть.
От рамакришнавцев, хотя они и подражательны, несет на меня моим родным Востоком, я лежу в расслабленной позе в траве, и только рука поддерживает голову, глаза я часто закрываю, и тогда только одна их круговращательная песня-молитва звучит в моих ушах:
Хари Кришна, Хари Кришна! Кришна, Кришна, Хари Хари! Хари Рама, Хари Рама! Рама Рама, Хари Хари!
Проведя, может быть, час под мерный шум бубнов, я решаю сменить положение и отправляюсь посидеть на скамеечке. Белокурая молодая мамаша, одетая Бог знает в какие тряпки времен Боттичелли, просит меня постеречь лежащее в коляске белокурое и столь же причудливо одетое дитя. Хоть бы она не возвращалась, – думаю я, с интересом поглядывая на ребенка. Я бы посидел, подождал, а потом взял бы ребенка себе, мне было бы о ком заботиться, кого любить, и для кого работать. Пусть бы дитя выросло и бросило меня – это неизбежно. Те, кого любят, всегда уходят, но 15 лет наверняка оно не ушло бы, я слышал бы его звонкий смех, я готовил бы ему еду, гулял бы с ним до упаду, не отдал бы его в школу, воспитал сам, играл бы с ним и бегал по берегу океана. Так я мечтаю.
Эдичка, несмотря на всю свою иронию и злость, как одинокая собака, потерявшая хозяина, мечтает увязаться за кем-то и служить. Мечты прерываются жестокой, как всегда в таких случаях, действительностью – возвращается мамаша вместе с папой.
Это человек, похожий на Христа, в потрепанном пиджаке и туфлях на босу ногу. Я его знаю, он всегда здесь расхаживает в толпе, сунув руку в карман этого самого пиджака и предлагает гуляющему народу джойнты. Впрочем, те, кто действительно серьезно курит, имеют свои, покупные жиже и слабее. Семья, очевидно, счастливая своим воссоединением благодарит меня. Я расшаркиваюсь. Отчего же… Готов еще… А хуля…
Семья укатывает с коляской, а я думаю, почему я не догадался сделать Елене ребенка. Она бы все равно ушла, но у меня остался бы ребенок, такие как она, детей с собой не забирают при уходе. У меня был бы ребеночек, и возможно, он был бы красивый, как Елена, да и я неплох, у меня был бы кусочек Елены – девочка или мальчик, которому ребенку я бы служил. Мудак, – думаю я. А что если…
В голове моей тотчас появляется план. Не сейчас, конечно. Сейчас я не в состоянии технически осуществить его. Но позже, может, через год, когда у меня будут здесь хорошие связи и друзья, я могу найти какую-то захолустную дачу, хорошо соответствующим образом оборудовать ее для содержания похищенного человека, и потом украсть Елену. Я найду доктора, может быть я уговорю того же Чиковани, моего друга, живущего в городке Дэвис в штате Калифорния, – он ведь мой друг еще из Москвы, и может быть, он не побоится рискнуть своим врачебным дипломом, все же друг, и вытащит из Елены пружинку, которая позволяет ей ебаться и не беременеть. Олег – нейрохирург, специалист по операциям головного мозга, такая операция для него пустяк. А я выебу мою девочку и продержу ее взаперти, пока она не родит – девять месяцев.
Людям, знающим ее, можно будет распустить слух, что она уехала к сестре, которая из разрушенного на хуй Бейрута перебралась или в Рим или в Париж – соврать всегда можно. А эти девять месяцев, не все, но первые шесть точно, я смогу еще ебать Елену, что она сможет сделать? Ничего. Позлится, поорет и успокоится. Я буду ее ебать каждый день, много раз, ведь нам, в сущности, нечего будет делать. При мысли о таком счастье у меня кружится голова и, как при всякой мысли о Елене, встает хуй…
…Это будет какой-нибудь Коннектикут. И мысленно я переношу место действия выдуманного мной похищения в дачу Алекса и Татьяны Гликерманов. Дача мне их нравилась, мы с Еленой были там пару раз, когда еще были супругами. Теперь она, кажется, изредка бывает у них одна. Даже в клозете у Гликерманов висят картины Дали, которого Алекс друг, ведь он, Алекс – директор очень модного модного журнала. В Татьяну же некогда был влюблен Володичка Маяковский, а если вы помните, я уже где-то обмолвился, что дружил в Москве с Лилей Брик. Странно, что судьба упорно связывает Эдичку с сексуальными преданиями другого великого поэта.
«Жена моя, не разведены мы до сих пор. Как же я тебя люблю», – думаю я с ужасом от открывшейся мне еще раз жуткой глубины пропасти моей любви. Я сделаю, сделаю это, убежденно говорю я себе. И пусть меня, если обнаружат, судят – любовь всегда права, всегда права, и я это сделаю, ни хуя я судьбе не покорился, судьбе, отнявшей у меня Елену, только затаился на время, жду…
Опадающие листья на этой даче медленно исчезли, но хуй до сих пор еще стоял, во мне было некоторое довольство, как будто я только сейчас выебал Елену и внутри ее завязался этот таинственный процесс. Ух!..
Я очнулся от своих мыслей. Идею я запомнил и спрятал, и пошел к группе людей, из центра которой доносился гитарный рокот, ритмика какого-то ударного инструмента и хриплые голоса.
Мордастые парни, собравшись под деревом, чуть не соприкасаясь лбами, поют какую-то песню, ритмическую. Я почти не понимаю их песни, но они сами, кое-кто с татуировками, со вставными зубами, мне знакомы. В России в одно и то же время, как и здесь, в Америке, появились такие же. Мы там у себя не знали, что мир живет по одним законам. Передо мной встает видение харьковского пляжа…
…Витька Косой, такой же мордатый, как эти мордатые, здоровый ногастый парень, обратившись лицом к еще более мордатому моему другу Сане Красному – мяснику, глядя ему в глаза, чуть не соприкасаясь с ним лбом, поет, дергая гитару, «русский рок»:
Зиганшин рок! Зиганшин буги! Зиганшин сорок дней во вьюге!
Мелодия этой песни пришла из радио-эфира, может, отсюда, из Америки, а ее слова, повествующие о попавших в бурю и подобранных американцами четырех советских солдатах-пограничниках сочинил русский народ.
Косой тогда только что приехал из Москвы, где он три года служил солдатом, и привез эту и еще десятка два-три подобных песен.
Они поют. Их обступили. Вот человек в плавательных трусиках с пальмами. Все его называют «Голливуд». Прозвище это он получил за то, что говорил цитатами из зарубежных фильмов. Например, идем мы по парку осенью. Голливуд обязательно скажет: «Эти листья шуршат, как американские доллары».
Люди на Вашингтон-сквер совершенно те же. С небольшими, чисто американскими отличиями, например – цветные татуировки на коже, и то, что часть из поющих и стоящих вокруг – черные. И все же я узнаю во многих своих далеких, давно уже спившихся харьковских друзей. С улыбкой мудреца замечаю я и сидящих в обнимку на парапете двух вульгарных накурившихся девиц-блондинок. По их припухшим лицам, накрашенным и смазанным ртам и глазам я узнаю неизменных наших подруг – девочек с Тюриной дачи – Масю и Коху, только что они переговариваются между собой по-английски. Другие зрители тоже знакомы. Этот вот – с черными зубами – Юрка Бембель, которого расстреляли в 1962 году за изнасилование несовершеннолетней… А это примерный студент-технолог Фима…
Удовлетворившись песней, по окончании которой вся поющая компания закусывает сигареткой марихуаны, я иду дальше, выхожу из парка к Студенческому Католическому центру и иду по Томпсон-стрит, вниз, где, проходя мимо мексиканского ресторанчика, разглядываю мимоходом не перестающие меня удивлять разнообразно-необычные шахматы в витрине шахматного магазина. Порой я иду левее, по Ла-Гвардии, где захожу в магазин тряпок. Его владелица – крупная белокурая полька – говорит с кем-то из посетителей по-польски. Я неизменно отвергаю ее помощь и разглядываю шляпы. Полька не злится, хотя я у нее никогда ничего не купил, а всегда только разглядываю. Особенное пристрастие у меня к белым вещам. Выйдя от польки, я пересекаю Хаустон-стрит, улицу скушную, захолустную как улица гоголевского Миргорода, но с двухсторонним движением, и спускаюсь в Сохо.