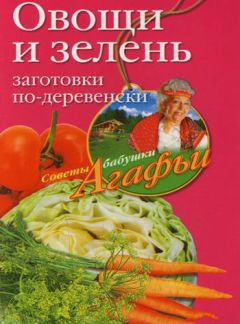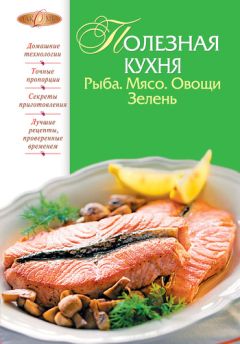Лана Ланитова - Глаша
Взор был направлен на «ходящую ходуном» карету. Она не сводила с нее глаз, включаясь в бешеный ритм, происходящего в ней таинства. Особенно дразнили и возбуждали громкие Глашины крики. Сладострастные охи и вздохи молодой барыньки звучали столь привлекательно, что Таня отказалась от воображаемого партнера и отправила его назад в темную чащобу. В эти минуты ей захотелось самой стать мужчиной. И мужчиной не простым – писанным красавцем с огромным детородным отростком. С каким наслаждением она бы проникла этим внушительным орудием в Глашин чувственный алый рот, или бы до отказа заполнила им таинственную, темную дыру, упрятанную меж стройных ножек крикливой барыньки. Эта дыра казалась ей входом в глубокий и темный, бездонный колодец. Колодец, куда уходила вся страсть, вся сила, весь разум. Все летело к чертям, с жутким втягивающим свистом в этот бездонный ненасытный колодец.
Потом Таня перевернулась на живот и, подняв высоко узкий зад, принялась ласкать себя сзади, ловкие длинные пальцы проникали в узкое, скользкое нутро. В эти минуты ей снова захотелось стать женщиной – женщиной справной с упругими, крупными формами. Хотелось, чтобы в нее с силой вошел фаллос Владимира Ивановича и вытянулся в ней до отказа. Надо сказать, что неразборчивый и жадный до наслаждения фаллос барина уже побывал ранее в Танюше и не раз, но вовсе не так, как она этого хотела.
Таня стонала так же сильно и громко, как Глаша, стараясь перекричать ее и попасть в такт звукам ее голоса. Как непривычны были эти звуки для тихого утреннего леса. Казалось, даже птицы замерли в большом удивлении. Сладострастные стоны разносились гулким эхом и ударялись в верхушки сосен и елей. Девушке доставляло большое удовольствие не сдерживать голос, а подражая Глаше, упиваться радостью, которую доставляли эти громкие сладострастные крики. Наконец она кончила, выгнувшись с силой в белую дугу. Наслаждение было длительным… Словно горячая волна прокатилась по лону девушки, сведя тугой и сладкой судорогой живот. Она еще немного, едва-едва шевеля пальчиками по воспаленной горошинке, возвращала себя к этим волнам, которые уже на спаде, заставляли пульсировать и сжиматься ее влажную норку. После, она какое-то время лежала почти без сил, закрыв глаза. И едва успела опустить подол на белое тощее тельце, когда внезапно услышала стук открывающейся дверки кареты.
Танюша вскочила на ноги, затем испуганно пригнулась и решила схорониться от греха подальше за кустом дикой малины.
Когда Глафира Сергеевна бледная и без сил, с опухшими от слез глазами, подошла к Танюше, то увидела, что та смотрит на нее вовсе не с любопытством, а как-то устало и отрешенно. Обе девушки присели на траву и долго молчали.
Теплое солнышко стало нежно пробиваться лучами сквозь белые облака. Ласковый ветер дул несильно, осушая траву, мокрую от прошедших накануне, дождей. Над поляной с усердным гулом зашумели толстые, полосатые шмели. Тяжело взмывая вверх и расправляя мокрые крылышки, они несли свои жадные хоботки к сладкому нектару, хранимому в теплых, сонных головках полевых, отцветающих цветов. Порхали яркие бабочки и стрекозы, отдавая всю радость, всю силу и желание жизни этому летнему беспечному дню. Делали они это так искренне и страстно, будто знали в глубине своих крошечных душ, что это – их последние мгновения короткой, беззаботной жизни. Будто чувствовали, что скоро на смену скоротечным теплым денькам придут холодные, колючие ветра и дожди. Дни пролетят, как одно мгновение, и вся земля будет укрыта толстым, снежным, белым одеялом. Одеялом их смерти и забвения.
Первой тишину нарушила Глаша.
– Таня, а как ты думаешь, в этом лесу Леший водится?
– Чтой-то вы, Глафира Сергеевна, спросить удумали? – ответила Татьяна и перекрестилась. – Благо еще, что день на дворе ясный. А ежели бы вечерело, так я вам и не отвечала бы вовсе. Потому, как: зачем про Нечистого спрашивать в его-то владениях?
– Нельзя?
– А что вы, так на меня смотрите? Али дивитесь? Знамо, что водится в чащобах нечисть разная. Может и не туточки, а где подальше, где люду человечьего поменьше шастает. А только, как ей не быть? – важно отвечала Татьяна. – Во всяком месте свой хозяин имеется. В лесу – «Леший» за зверьем ходит; в воде – «Водяной» рыбьи стада пасет; в поле – «Полевой» за покосом следит; в доме кажном – «Домовой» за печкой сидит; а в бане – дед «Банник» сторожит. Да и в других местах всякий дух свой живет. А только у истинного христианина на всякую нечисть одна защита имеется – крест православный, да молитва, – сказав это, Татьяна вытащила из-за пазухи маленький серебряный крестик и, помахав им перед носом смущенной Глаши, истово поцеловала его и спрятала под ворот выцветшей рубашки.
Потом, глядя на Глашу, она вдруг рассмеялась и продолжила.
– Вы, барышня – как дите малое, несмышленое: всему удивляетесь. А оно и воистину: есть, чему и подивиться. Живет у нас в деревне одна бабка, Мелентьевной все величают. Она и знахарка и повитуха. Паче других ведает и о травах, и о зверье, и о духах разных. Сколь всего диковинного она нам рассказывала! Сказывала, что Леший, он для плохого человека страшен и лют, а доброму пособляет – заплутавшего из чащобы выводит, грибами, да ягодами одаривает. А коли видит, что злыдень в лес пожаловал – так он такой ветер поднимет, так его закружит и листьями засыплет. А может, на корягу острую бросить или зверю лесному на съедение отдать.
– Господи, Боже мой, какие страсти! Таня, а как он внешне выглядит?
– Как выглядит, спрашиваете… Да уж, кто видал его, тот никогда не забудет. Говорят, что огромен – до верхушек деревьев истуканом стоит. И волосом длинным, словно тиной, с головы до пят покрыт. Одёжа на нем имеется, а только вывернута вся наизнанку. Лицо у него – цвета болотного, без ресниц и бровей – очень уж страшное. Рот огромен, как яма. А вместо очей – уголья красные горят, – понижая голос, зловеще проговорила Таня.
– Ужас! – по Глашиному телу пробежали мурашки.
– То-то, что сущий ужас!
– Таня, скажи, а у Лешего жена бывает?
– Тьфу, и что это он вам дался?! Жена… Как не быть? Конечно, бывает. Жена его: кикимора лесная али болотная – старуха страшная, лохматая, да лихотная. Злющая, как Петровна наша, – ответила Татьяна и громко рассмеялась, – хотя, Мелентьевна нам сказывала, что Леший этот иногда девушек молодых крадет, насильно в жены забирает.
– Как, так насильно?
– А так и насильно. Рассказывали, что однажды девица по имени Параскевья пошла с подружками по грибы. Шла она, шла… Да, заблудилась ненароком. Отбилась, значит, от подружек и в чащобу дальнюю угодила. Уж, они искали ее, искали до самой ноченьки – не нашли. Набрели под утро. Глядят: а она лежит под древом вся растрепанная, платье изорвано в клочья, глаза безумные. Они пытались порасспросить ее о том, что с нею приключилось, а она молчит – словно воды в рот набрала. С тех пор, сама не своя стала – как будто умом тронулась. Стала только матушка ее замечать, что у Парашки вдруг живот стал на нос лезть. Понесла она. И через положенное время разрешилась от бремени младенчиком, – перейдя на шепот, и страшно округлив зеленые глазищи, Татьяна продолжала. – Только младенчик энтот порченный был, каженный… Голова – дюже большая и бледная, словно пузырь коровий. И главное: дитё все волосьями густыми, зелеными покрыто – с головы, до пяток!
– Страх Божий!
– Да уж, страх и есть. А только Парашка-то, никому не разрешила младенчика трогать. Стала титьку ему давать, да нянчить. А ночью задремала чуток, а как проснулась, глядь – в люльке вместо младенца полешко деревянное лежит, в пеленки обмотанное. А в избе кругом следы мокрые и листья зеленые валяются.
– И как это понять?
– А так и понимать: у дитя-то отцом был как раз Леший лесной. Вот он и забрал его той ночью к себе, в чащобу, ал и кулигу[48].
– А Парашка как же?
– Говорят, что и сама Парашка опосля куда-то сгинула. Поискали ее, поискали – да так и не сыскали. Да и право сказать, она ведь тоже каженницей[49] стала. Следить ее – зряшное дело, только лихо-злосчастье сытить. – А чего вы, Глафира Сергеевна, так про Лешего меня дотошно пытаете?
– Да так… пустое, – Глаша смущенно отвела глаза.
– Что же, за секрет?
– Да нет никакого секрета. Владимир Иванович мне сказал, что я на ведьму лесную похожа. Сказал, что за Лешего меня надо просватать.
– А что ему говорить-то вам, ежели, он – обманщик знает, что никогда на вас не женится. Тем паче, что не один с вами балУется, а как нехристь какой – вдвоем с Игнашкой вадит. Свальный грех на вашу душеньку повешал. Я это… Я, почему говорю-то так? В старые времена, как Мелентьевна нам сказывала, вот энтим-то самым грехом многие по деревням баловАлись. Не скажу, что в наших местах, нет. Но, кажись, тоже русского, православного духу народец-то был. Особенно в ночь на Ивана Купалу находила на всех дурнота, да морок – становились люди хуже зверей диких: раздевались донага и кидались лобызать и лапать друг дружку – девки, парни – сраму не имели. Мало раздевались… Они голышом и купались, и через кострища сигали, по лесу темному плутали, в травах колдовских валялись, кричали, как оглашенные. В эту ночь и нечисть разная силу большую имела: ведьмы по дворам шастали, лешие хороводы водили, приняв облик человечий. Тем и смущали православных, к греху плотскому понужали. А люди что? Не все конечно, а те, кто духом слабже, шел на поводу у нечисти. Кто падок до греха, того и увещевать не надобно. Он сам, как свинья грязь, грех везде сыщет. Кто с богом-то душе – тот, поди-ка, прилюдно-то не срамился, да не оголялся, по пожням и лузям не катался. С курвами не блядовал, бока на муравах не мял.