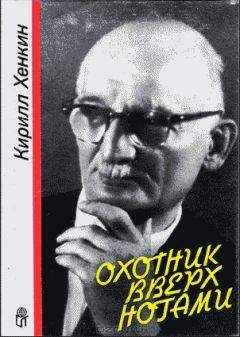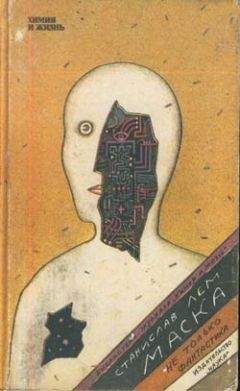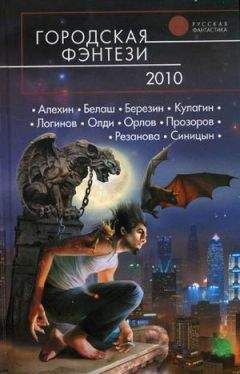Виктория Абзалова - Вопросы цены и стоимости
- Да только на воре, говорят, и шапка горит, - сладко заметила женщина. - Так что, позволь тебе посоветовать - не совался б ты, куда не просят!
Рука, на которую она оперлась, сместилась и больно стиснула пальцы.
- Знаешь, сестрица, - Таш обаятельно улыбнулся, но в тихом голосе прозвучала угроза, - я бы тебе тоже посоветовал: займись лучше вышиванием! То, что у тебя на пальце теперь кольцо, еще не значит, что появились хотя бы куриные мозги.
Некоторое время брат и сестра мерили друг друга взглядами, отточенными как боевая рапира, после чего незваный и нежеланный гость так же молча откланялся.
Катарина поморщилась, тряхнув кистью, но синяки вряд ли останутся. И дернула губами в намеке на далеко не добрую улыбку: зря, братец! Эти слова она еще припомнит, а обручальное кольцо означает по крайней мере то, что она теперь может себе это позволить.
Значит, милый братец жаждет заполучить «ягодку» в свою постель… Что ж, средство сквитаться не нужно было даже придумывать! В конце концов, разве достойно доброй христианки потворствовать блуду.
***
Тишина в кабинете, рухнувшая вслед за захлопнувшейся за спиной дверью, была жуткой. Несколько минут молчания всего лишь, - а, чувство такое, словно палач в это время проворачивал под ребрами тупой ржавый крюк, разрывая живую дышащую плоть и превращая ее в кашу. От такой боли остается либо заходиться хрипящим воем, как зверь под ножом забойщика, либо молчать, потому что слов, чтобы выразить ее - просто не существует ни в одном языке, не придуманы еще.
Сорвись сейчас Ожье, обрушь на голову юноши негодующую отповедь - было бы легче и проще! Дурной норов сказал бы сам за себя, и за едким словцом не пришлось бы лезть в карман. Но мужчина молчал. Ожье стоял, отвернувшись лицом к единственному окну, и не торопился ни с упреками, ни с поручениями.
… Это было странное ощущение. Как натянутая тетива. Как предчувствие гона. Равиль не мог бы сказать, что не так и кто виноват, но - что что-то «не так» до самого края, знал точно! Чуял многожды ученной рыжей шкуркой и этой своей новой болью, к которой, оказывается, успел уже притерпеться.
Что дальше? Что делать? Снова кусаться, огрызаться или хитрить и юлить? Упасть в ноги, признаваясь в тайном и явном, и самом сокровенном, либо же врать о свалившейся вдруг неземной любви, чтобы хотя бы окончательно не уронить себя в грязь в самых дорогих, таких суровых сегодня глазах… Только, Равиль очень сомневался, что у него набралось бы сил на складный обман и изобразить нечто, хотя бы отдаленно похожее на правду перед НИМ. Не говоря уж о том, что просто не смел. Он лишь ждал своей участи.
И дождался: Ожье наконец развернулся и смерил юношу взглядом, от которого его едва не пригнуло к земле. Равиль опустил ресницы на долю секунды раньше, чем они должны были встретиться глазами, но отчетливо чувствовал на себе этот медленный, давящий непосильной ношей взгляд, наполненный смыслом, которого он не мог понять, как ни старался…
- Вы… Вы хотели дать мне какое-то дело… - напомнил Равиль, едва совладав с голосом, и неуютно поведя плечами.
Он стиснул зубы, незаметно прикусывая внутреннюю сторону губы - слабая боль всегда отрезвляла и помогала собраться…
А в следующий момент Ожье оказался прямо перед ним, преодолев незначительное расстояние и обогнув огромный, заваленный всяческими бумагами стол в несколько широких шагов. Крупные ладони обняли лицо бережно, но неумолимо, заставляя откинуть голову:
- Посмотри на меня!
Это был приказ, которому невозможно не подчиниться, но юноша упорно отводил глаза: то, что происходило, вдруг оказалось страшнее, чем даже самое откровенное презрение и прямое распоряжение немедленно покинуть дом на все четыре стороны. Это было слишком… остро? Больно? Равиль не смог бы сказать сам.
- Рыжик-рыжик! - прозвучало приглушенно. - Горе ты мое, что же ты делаешь…
Нота упрека почудиться не могла, и Равиль не выдержал, - вывернулся решительно, прожег мужчину отчаянно возмущенным взглядом.
- Я просто хочу, чтобы меня любили!! - вырвалось само собой. Полностью скрыть горечь он тоже не смог.
- Я тебя люблю, - просто, как само собой разумеющееся сообщил Ожье.
Затишье… юноша застыл в его руках на мгновение. И вдруг…
Равиль дернулся, как будто в него попала молния. Отшатнулся в сторону и стал осторожными шажками отступать до двери, ошеломленно, почти с ужасом смотря на нахмурившегося мужчину расширенными глазами:
- За что?!
Лицо покинули последние краски, так, что он сравнялся цветом с собственной рубашкой. Юношу заколотило как в лихорадке.
- Да как вы можете?!! - исступленно выдохнул Равиль, не переставая отрицательно мотать головой. - За что! Я… я же вас… На самом деле!!!
Он рванулся, дергая на себя массивную резную панель, охваченный одним единственным желанием - оказаться как можно дальше, в каком-нибудь темном уголке, где его никто не найдет, и можно будет перевести дыхание и зализать новые раны.
Он не успел - Ожье оказался быстрее:
- Равиль?! - в голосе мужчины был уже страх, но юноша его не слышал, сосредоточенный целиком на том, чтобы еще и не расплакаться как обиженному недорослю.
- Не смейте! - Равиль сопротивлялся хватке на плечах так, как будто от этого зависела его жизнь.
Уж рассудок точно!
- Не смейте…
Не смейте так лгать, это же хуже любой муки!
Нет, любимый никогда бы не стал так врать, не стал бы издеваться над чужой болью! И от этого еще хуже: от того, что иной «любви», чем была до сих пор, у них не будет…
- Пустите! Пусти…
- Малыш, да что с тобой?! - Ожье не шутя тряхнул отбивающегося юношу.
…Единственное, чего он по-настоящему хотел - быть любимым не кем-то, а именно этим человеком. Во всех смыслах слова «любимый» - и в единственно верном! Куда там идолам и божествам - все они меркли перед тем, кто наиболее полно воплощал собой понятие «мужчина»… Он бы жизнь ему отдал: прожить жизнь ради кого-то гораздо труднее, чем в порыве из-за кого-то умереть. Он не мог уйти, а теперь не мог больше оставаться… Вынести все это.
И когда все невозможности сошлись вместе - в руках Ожье, в качестве вознаграждения за честное признание, оказалось лишь бесчувственное тело.
Обеспамятовавший юноша у него на руках казался невесомым, почти бесплотным. Безгранично хрупким - до замирания сердца. Как видение… призрак мечты. Он смотрелся тонкой веточкой, бледным весенним побегом на пасмурной проталине - и это его дикий кусачий лисенок?
Ожье словно впервые его увидел: какие нежные у его мальчика ресницы… линия гладкой щеки и высоких скул невыразимо трогательна. И сколько уязвимости в изгибе губ, открытой шее, беззащитной ямочке между ключиц, сколько обреченной упрямой гордости в всегда прямом развороте плеч, дерзко раскинувшихся крыльях бровей… Почти прозрачные тонкие ладошки и длинные идеально ровные пальцы с местами по-детски обкусанными ногтями… Господи, он же и есть ребенок почти, ему же едва 18ть, да еще всякой мразью истоптанный по самое некуда!
Бережно уложив Равиля на кровати в комнате, которую тот занимал, мужчина попросту разорвал шнуровку на вороте, чтобы облегчить ему вздох, осторожно отвел с лица спутанное облако кудрей. Лисеныш…
Когда он стянул башмаки, еще не полностью пришедший в себя юноша с судорожным вздохом дернулся в попытке толи отвернуться, толи свернуться, толи оттолкнуть того, кто его касался.
- Шшш, - Ожье придержал его легонько, - тише, рыжик… тише, успокойся, маленький…
От звука его голоса, Равиль рванулся сесть, задохнулся, закусив в раз задрожавшие губы, и рухнул обратно на постель с еле слышным всхлипом:
- Хватит!!!
- Хорошо, лисеныш, я сейчас уйду, - приговаривая с ласковой силой, мужчина уложил его удобнее и отстранился, выпрямляясь, - ты только успокойся немного! И не вставай, тебе сейчас не стоит…
Он давно знал, что привычка Равиля держать все в себе рано или поздно может обернуться тяжелым срывом, и в этот момент преобладающими чувствами были тревога и страх за него. Они рвали надвое от желания обнять парнишку, гладить, шептать в ушки что-то глупое, но успокаивающее, и сознанием того, что как видно, именно его присутствие для юноши сейчас невыносимее всего и может обернуться чем еще похуже.
Ожье было не по себе. Обморок, точно высверк молнии, осветил до поры скрадывающиеся повседневностью особенности и акценты в чертах, и теперь бросалось в глаза, что мальчик измучен, зачах, уязвлен и истерзан переживаниями. Когда у Равиля больше не осталось сил натягивать на себя привычную маску бодрого бесстрастия или азартного отпора, становилось видно, что от впечатлившей переборчивого торговца яркой вспышки осталась болезненная тень.
Неужели это его вина? И если да, то в чем?
«Рыжий мой звереныш…»