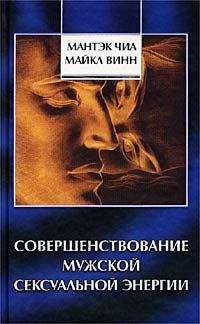Маркиз Сад - Злоключения добродетели
«Как я счастлив, что имею возможность отблагодарить вас за вашу доброту! Меня зовут Дальвиль, в пятнадцати лье отсюда, в горах, у меня прекрасный замок, предлагаю вам последовать туда со мной; надеюсь, что там вы сумеете обрести приют. Чтобы мое предложение не показалось вам двусмысленным, я сразу хочу оговорить все условия. Я женат, моей жене нужна надежная горничная, недавно мы уволили недобросовестную прислугу, и я могу взять вас на ее место».
Я горячо благодарила своего неожиданного покровителя и поинтересовалась, как случилось, что такой почтенный человек, как он, путешествовал без сопровождения и рисковал настолько, что стал предметом оскорбления грубиянов и мошенников.
«Я человек молодой, сильный и крепкий, – ответил мне Дальвиль, – и имею обыкновение возвращаться домой один и пешком. Мое здоровье и мой кошелек мне это позволяют. Дело вовсе не в недостатке средств – благодарение Господу, я человек обеспеченный, и вы еще будете иметь случай в этом убедиться, если окажете честь посетить меня. Те двое, с которыми я только что имел дело, – местные дворянчики, не имеющие за душой ничего, кроме плаща и шпаги: один чей-то телохранитель, другой служит в жандармах, – словом, оба прохвосты. На прошлой неделе в Вьене я выиграл у них сто луидоров. На двоих едва нашлось десять, и мне пришлось удовлетвориться их честным словом. И вот сегодня при встрече я напоминаю им о долге... и вы видели, как они со мной расплатились».
Я посочувствовала этому достойному господину, утешив его в двойном несчастье, жертвой которого он оказался. Однако он торопился поскорее отправиться в дорогу.
«Благодаря вашим заботам, – сказал Дальвиль, – я чувствую себя немного лучше. Скоро стемнеет, мы успеем дойти до постоялого двора, он в двух лье отсюда, там переночуем, а наутро возьмем лошадей и к вечеру доберемся до моего замка».
Я решила не упускать случая, который, казалось, само Небо посылает мне. С моей помощью Дальвиль поднялся на ноги, и мы отправились в путь. По дороге мне приходилось все время поддерживать усталого путника. Мы сошли с главной дороги и узкими тропинками двигались в сторону Альп. Действительно, уже через два лье мы добрались до постоялого двора, о котором упоминал Дальвиль. Ужин прошел вполне пристойно. После еды мой спутник поручил хозяйке позаботиться обо мне, и та поместила меня на ночлег рядом с собой. Наутро мы взяли напрокат пару мулов с погонщиком. Все время двигаясь в направлении гор, мы и подошли вплотную к границам Дофине.
Дальвиль, мучимый ранами, не мог идти быстро. Это не очень меня стесняло, так как я сама не была привычна к такому тяжелому пути и чувствовала себя не вполне здоровой. Мы остановились в Вирье, где мой покровитель вел себя столь же прилично и сдержанно, и на следующий день продолжили путь в том же направлении. К четырем часам пополудни мы подошли к подножию гор. Дорога становилась почти непроходимой, и Дальвиль наказал погонщику мулов не отходить от меня и оберегать от несчастного случая. Углубившись в ущелье, мы кружили, спускались вниз, поднимались вверх и, пройдя не более четырех лье, настолько удалились от всякого человеческого жилья и от какой-нибудь дороги, что я почувствовала себя на краю света. Смутное беспокойство охватило меня. Блуждая по этим неприступным каменистым тропам, я невольно вспомнила извилистые подступы к монастырю Сент-Мари-де-Буа, и эта приобретенная неприязнь ко всяким затерянным в глуши местам вновь заставила меня содрогнуться. Наконец я заметила какой-то замок, громоздившийся на краю крутой скалы, словно готовый свалиться в страшную пропасть, скорее обитель привидений, чем жилище людей из общества. Казалось, туда нет никакой дороги. Только узкая, усеянная камнями тропинка, пригодная лишь для горных коз, бесконечно извиваясь, вела туда. Долго кружа по ней, мы наконец добрались до замка.
«Вот и мой дом», – произнес Дальвиль, не подозревая, что я уже успела разглядеть замок.
Я удивилась тому, что он выбрал себе столь уединенное жилище, на что Дальвиль довольно резко ответил, что каждый живет там, где может. Его неожиданно грубый тон поразил меня, и мое прежнее спокойствие сменилось каким-то тревожным предчувствием. Когда находишься в беде, ничто не ускользает от твоего внимания, любой пустяк может вдохнуть в тебя жизнь или похоронить все твои надежды. Однако понимая, что отступать некуда, я не подала виду, что волнуюсь. Еще один поворот – и древнее сооружение словно выросло перед нашими глазами. Дальвиль сошел со своего мула, повелев мне последовать его примеру, вернул обоих мулов погонщику и, расплатившись, отпустил того, приказав возвращаться обратно. Этот поступок еще больше настораживал. На этот раз мне не удалось скрыть своего смятения.
Чего вы опасаетесь, Софи, – спросил Дальвиль, когда мы пешком шли к его обиталищу, – вы ведь не за пределами страны. Хоть замок и находится на границе с Дофине, подчиняется он Франции.
«Предположим, что это так, сударь, – отвечала я, – но отчего вам вздумалось поселиться в таком зловещем месте?»
«Зловещем? О нет, – Дальвиль исподтишка наблюдал за мной, – не волнуйся, моя девочка, это не разбойничий притон, хотя люди здесь живут не совсем добропорядочные».
«Ах, сударь, – мой голос задрожал, – вы пугаете меня, куда же вы меня ведете?»
«Я веду тебя в банду фальшивомонетчиков, потаскушка!»
И Дальвиль грубо схватил меня за руку и с силой втолкнул на подъемный мост, который опустился при нашем появлении и тотчас же после нас был убран.
«Мы уже на месте, – продолжил он во дворе, – взгляни на этот колодец. – И Дальвиль указал мне на двух закованных в кандалы обнаженных женщин, которые приводили в движение колесо, качая воду в огромный резервуар. – Вот твои подруги и вот твоя работа. Ты будешь по двенадцать часов в день крутить это колесо, и так же как твои товарки, всякий раз, когда проявишь нерадение в работе, будешь избита самым жестоким образом. Один раз в день тебе будут выдавать шесть унций черного хлеба и миску бобов. Что касается свободы, забудь об этом, тебе никогда ее не видать. Если же ты не выдержишь такой нагрузки и умрешь, тебя сбросят в шахту, которую ты видишь рядом с колодцем, на ее дне уже покоятся тридцать или сорок женщин, тебя же заменит новая раба».
«Великий Боже! – воскликнула я, бросаясь Дальвилю в ноги. – Вспомните, сударь, я спасла вам жизнь; преисполнившись признательности, вы готовы были облагодетельствовать меня, и разве не этого я вправе была от вас ожидать?»
«Что ты подразумеваешь под так называемым чувством благодарности? Так-то ты пытаешься поймать меня в сети? – спросил вместо ответа Дальвиль. – Лучше поразмысли, жалкое создание, какие цели ты преследовала, спасая меня. Из двух возможностей: следовать своей дорогой или прийти ко мне на помощь – ты выбрала ту, на которую вдохновило тебя сердце. То есть ты просто предавалась наслаждению от сознания собственного благодеяния. Так какого же дьявола ты смеешь претендовать на мою благодарность за удовольствие, которое ты сама себе доставила?! И как это тебе взбрело в голову, что человек, который купается в золоте и роскоши, владеющий миллионным состоянием, для которого ничего не стоит прогуляться ради собственного удовольствия в Венецию, соизволит опуститься до того, чтобы быть обязанным какой-то оборванке? Да, ты мне подарила жизнь, но все равно я ничего тебе не должен, ибо ты при этом пеклась лишь о своем наслаждении. Раба, твое дело – работа!
Заруби себе на носу, что цивилизация, подчинившая природу, вовсе не затронула ее естественных законов. Так, природа создала тварей изначально сильных и слабых с намерением, чтобы одни всегда подчинялись другим, подобно тому как ягненок всегда склоняется перед львом, а насекомое – перед слоном. Положение же людей зависит от их сноровки и ума, и их вес в обществе отныне определяется не физической силой, а могуществом денег. Самый богатый становится самым сильным, а самый бедный – самым слабым. Однако при таком изменении характера власти первенство сильного над слабым все равно сохранялось в природе, которой безразлично, кто господствует – самый сильный или самый богатый – и кого заковывают в кандалы – самого слабого или самого бедного.
Что же касается чувства благодарности, за которое ты ратуешь, Софи, то природа его не признает. Она не знает закона, согласно которому наслаждение, испытанное кем-то при оказании некоей услуги другому, должно побудить того другого в знак признательности отказаться от своих естественных прав. Разве встречала ты среди животных, которых мы приручили и которые нам служат, пример такого рода чувствительности? Если я возвышаюсь над тобой своим богатством и могуществом, то естественно ли в моем положении отказываться от своих законных прав в твою пользу лишь на том основании, что ты доставила себе удовольствие, спасая меня, в надежде своей хитростью чего-то от меня добиться? Даже если услуга оказана равным равному, и то душа гордая и возвышенная никогда не унизится до благодарности. Разве не чувствует себя оскорбленным тот, кто принимает благодеяние, и не является ли его унижение достаточной платой тому, от кого исходит услуга? Не тешит ли свое самолюбие человек, испытывающий превосходство над тем, кого он облагодетельствовал? И, если чувство долга задевает гордость того, кто принимает чужую милость, становясь ему в тягость, кто может запретить человеку освободиться от такого рода чувства? Мне неприятно опускать глаза всякий раз, когда я встречаюсь с выжидающим взглядом того, кому я обязан. Таким образом, неблагодарность не порок, а добродетель гордой души. Благотворительность же, напротив, приличествует лишь душе слабой. Раб проповедует ее своему хозяину лишь оттого, что сам нуждается в ней, но тот, кто может позволить себе подчиниться лишь собственным страстям и законам природы, должен тратить силы лишь на то, что способствует его выгоде или наслаждению. Пожалуйста, пусть слабые люди оказывают услуги в свое удовольствие, если им это нравится, но пусть не требуют ничего взамен».