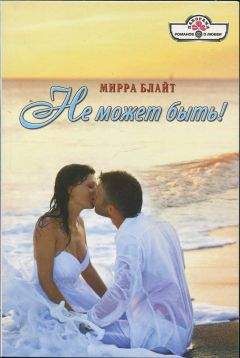Виталий Протов - Любовные похождения барона фон Мюнхгаузена в России и ее окрестностях, описанные им самим
Наконец запыхавшаяся стайка окружила меня и замерла, устремив взгляды на орудие, которое я все еще держал в руках – я только теперь понял, что, вероятно, имею довольно глупый вид, а потому поспешил убрать под исподнее то, чему и надлежало там быть, укрытому от посторонних, а уж тем более женских глаз.
Окружавшая меня стайка издала вздох разочарования. А я поспешил разузнать, кто они такие и каким образом оказались на нашей стороне. Вперед вышла девица со сбившейся паранджой, которую она не стала поправлять, как того, видимо, требовал от нее Коран. Она говорила, глядя мне прямо в глаза и ничуть не смущаясь.
Оказалось, что эта стайка женщин – гарем Усмана паши, командовавшего турецкими силами по ту сторону реки. Усман паша вот уже три месяца как отбыл в Стамбул за инструкциями к султану, а в гареме вот уже два месяца как начались брожения. Сначала они, для того чтобы погасить разгоравшийся в них пожар, пытались использовать евнухов при гареме, но оказалось, что те совершенно непригодны для их целей. Они пробовали было заманить к себе янычар, но те слишком боялись Усмана пашу, который непременно жестоко наказал бы их по возвращении.
Тогда жены впали в тоску, целыми днями сидели без дела в гареме, причитая как на похоронах, а по утрам выходили наружу, рассаживались вдоль стены на скамье и взирали на этот прекрасный и жестокий мир, в котором они лишились единственного смысла своего существования – быть женами любимого мужа. И вот сегодня утром, сидя у стены гарема, они увидели контуры моей фигуры на фоне занимающейся зари. Видение это столь поразило их, что они, не сговариваясь, в едином порыве припустили на нашу сторону и неслись так быстро, что успели добежать до меня, пока я справлял малую нужду.
Когда женщина (а как вскоре выяснилось, это была старшая жена гарема) закончила свой короткий рассказ, все они упали на колени и, умоляюще сложив руки, принялись уговаривать меня взять их в жены. Они говорили, что в возможностях моих быть для них хорошим мужем не сомневаются – они хоть и издалека, но сумели разглядеть мое орудие любви и прониклись почтением, каким только может проникаться женщина к мужчине, – и просили, требовали, умоляли взять их всех вместе, обещали быть верными женами и всячески ублажать меня.
Я представил себе такую перспективу, и пелена сладострастия заволокла мой взор, хотя разум и говорил мне, что реализовать такую идею на практике невозможно. Я тем не менее позволил себе поиграть этой мыслью, но потом заставил себя вернуться к суровой действительности.
Мне не хотелось обижать столь прекрасных жен, воспылавших ко мне страстью, а потому я предложил им некий компромисс. Я объяснил им, что Россия – христианская страна, в которой многоженство запрещено, а у меня самого помимо законной жены есть и еще кое-какие обязательства, поэтому я при всем моем желании и уважении к ним, не могу ответить на их потребности. Однако в нашем полку, объяснял я им, есть немало молодых офицеров, которые будут счастливы иметь дело со столь искушенными в искусстве любви женами.
Все и в самом деле разрешилось, к всеобщему удовольствию. Молодые офицеры полка были рады такому неожиданному подарку, многие из них даже женились на хорошеньких турчаночках и, спустя время, ушли в отставку и прожили с ними долгую и счастливую жизнь.
Мне же до отставки было еще далеко...
Чуть позже я узнал, что наш полк снова отзывают в Санкт-Петербург. Мои кирасиры были рады предстоящей перемене обстановки и взялись за недолгие сборы. Вскоре наша конная колонна тронулась в путь, и я навсегда простился с тихой южной деревенькой, моими радушными хозяевами и девой, подарившей мне незабвенные мгновения и новые знания об особенностях женского плодородия.
Опасное отцовство
Прибыв в Санкт-Петербург, я первым делом дал знать о себе великой княжне, и каково же было мое удивление, когда я узнал, что именно ее стараниями и интригами наш полк был возвращен в столицу...
Я сижу за своим рабочим столом в родовом замке и настороженно оглядываюсь – не стоит ли кто у меня за спиной, скосив глаза в мою рукопись. До чего же взрывоопасный материал эта бумага, исписанная моими незатейливыми заметками. Мне осталось дописать еще две-три страницы, после чего мои мемуары будутпомещены в бутыль и надежно запаяны там. Затем в стене замка будет сделано углубление, куда я помещу эту бутыль, и надежный каменщик замажет его особым раствором, который схватится в два дня, а не ранее чем через сто лет начнет понемногу осыпаться, пока не опадет полностью, обнажив заветную бутыль для любознательных потомков. Каменщик сказал мне, что секрет этого состава был передан ему отцом, который работал во дворце короля Фридриха и выполнял не менее деликатные поручения подобного же свойства. Что ж, мне не остается ничего иного, как положиться на его рассудительность и порядочность. Итак, я продолжаю.
Началась самая тревожная, волнительная и восхитительная часть моей русской жизни. Изобретательная Фикхен находила такие неожиданные уловки и предлоги для наших свиданий, что нам удалось сохранять наши отношения в тайне в течение всего времени, что они продолжались. Она даже распустила слух о моем якобы отъезде из Санкт-Петербурга домой, что в моем положении было мне, конечно, на руку.
Фикхен окончательно рассорилась с мужем, и он из вредности время от времени посещал ее в ее спальне (видимо, советы врачей пошли ему на пользу или же какая-нибудь из придворных шлюх проявила достаточно терпения, как об этом говорил наш полковой врач, и помогла ему избавиться от его детской болезни). Ни сам он, ни Фикхен удовольствия от этих посещений не получали. Впрочем, сказанное не совсем верно: он-то получал некое извращенное удовольствие от того, что у Фикхен его визиты не вызывали ничего, кроме омерзения. Однако она терпела его, поскольку, как я теперь понимаю, его редкие посещения супружеской спальни идеальным образом вписывались в тот план, который умница Фикхен уже в то время держала в голове.
Прошло несколько упоительных месяцев, и свидания вдруг прекратились. Впрочем, Фикхен давала о себе знать, присылая мне неподписанные весточки, в которых извинялась за занятость и обстоятельства, делавшие наши встречи пока невозможными. Она просила меня проявлять терпение и ждать, ждать, ждать...
Откровенно говоря, ожидание стало уже утомлять меня, да и моя верная Якобина слала из Риги нетерпеливые письма. К тому же поступали вести из дома, из Боденвердера: обстоятельства там складывались так, что требовалось мое присутствие, в противном случае я мог лишиться родовой собственности. Я подал начальству рапорт об отпуске и снова принялся ждать – теперь уже решения военного ведомства, но тут случилась записка от Фикхен, которая приглашала меня в Петергоф. Я со всем энтузиазмом оседлал коня и поскакал туда в предвкушении встречи.
Фикхен за те несколько месяцев, что я не видел ее, слегка раздобрела, движения ее стали более плавными и замедленными – она окончательно перестала быть той девочкой-подростком, какой я помнил ее.
– Ну, что, мой верный рыцарь... – сказала она. – Знаешь ли ты, зачем я тебя позвала, любезный мой барон Мюнхгаузен?
Я лишь недоуменно смотрел на нее, понимая, что ее вопросы не требуют ответа.
Она дала мне знак следовать за нею, и я пошел по парку, где каждое деревце, каждый кустик были аккуратно выстрижены и росли на своем месте. Вскоре мы оказались перед высоким забором, который, однако, препятствовал лишь доступу на огороженную территорию, но сквозь широко посаженные доски было прекрасно видно, что происходит за ним.
А за ним происходило вот что: на лужайке перед летним павильоном стоял стул, а на нем сидела дебелая баба, кормившая грудью младенца. Я снова удивленно посмотрел на Фикхен – по ее лицу гуляла улыбка.
– На что я тут должен смотреть? – спросил я.
– На нашего с тобой Пауля, – сказала она.
Мы с ней всегда говорили только по-русски, и тут она тоже не отошла от нашего правила, но имя произнесла на немецкий манер – Пауль.
Удивлению моему не было предела. Что это еще за Пауль? И почему «наш»? Но я не хотел показаться несообразительным, а потому просто стоял и смотрел на женщину с младенцем.
– Наследник российского престола, – добавила к сказанному Фикхен.
Я перевел взгляд на нее – и мне все стало ясно как божий день. И ее исчезновение в последние месяцы, и ее требование ждать, и ее нынешняя полнота...
– А теперь ты должен уехать, – сказала Фикхен. – Возвращайся в свой Боденвердер. Мы больше не увидимся. Но мне будет приятно знать, что ты помнишь обо мне.
Она оглянулась через плечо, потом на мгновение прижалась ко мне всем телом, отпрянула и исчезла за незамеченной мною ранее калиткой в высоком заборе. Я увидел сквозь щель, как она подошла к женщине с младенцем, что-то сказала ей, а потом скрылась в павильоне.