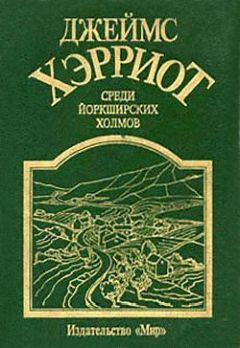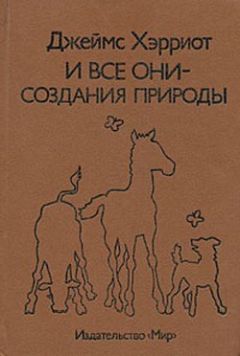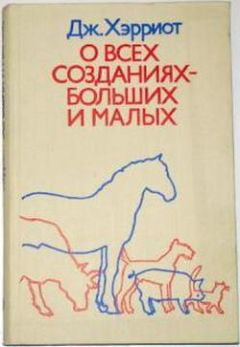Джеймс Хэрриот - Из воспоминаний сельского ветеринара
Пока ягненок сосет мать, он держится возле нее. Но к тому времени, когда он будет готов начать самостоятельную жизнь, его необходимо пометить способом, зарегистрированным для данной фермы, чтобы его всегда можно было узнать, если он заблудится и прибьется к чужому стаду. Этому ягненку метят ухо — такая метка надежнее выстриженной или поставленной на рог. Выстриженные метки приходится возобновлять после каждой стрижки, а рога овцы иногда сбрасывают с возрастом. Просечки, дуги, квадратики, клинышки, отрезанные кончики ушей и другие метки, удвоенные или в сочетании, на левом ухе или на правом, на верхнем краю или на нижнем дают огромное число неповторяющихся вариантов.
Хлебные стога
До 30-х годов обычным зрелищем в йоркширских холмах были хлебные стога, стоявшие группами на каждой ферме, округлые, увенчанные аккуратными куполами из соломы. Каждый стог укладывался на деревянном настиле, поставленном на камнях, чтобы вредителям было труднее добраться до зерна. Стог мог состоять из тысячи снопиков, уложенных колосьями внутрь. Бока стога выравнивались острым ножом. Каждую неделю или две очередной стог разбирался, и снопики увозились в сарай для обмолота.
Уборка клевера
В севообороте клевер играет двоякую роль. Высеянный при четырехлетней ротации, он обогащает почву азотом. На этом поле можно пасти скот — оставленные им навозные лепешки также отличное удобрение. Или же клевер косят на сено, представляющее собой прекрасный зимний корм. В 30-е и 40-е годы можно было постоянно наблюдать, как конная косилка срезает клевер, а идущий сзади работник с граблями собирает его в валки.
9. Джок бьет всех соперников
Едва я приподнялся на кровати, как увидел вдали холмы за Дарроуби.
Я встал и подошел к окну. Утро обещало быть ясным, лучи восходящего солнца скользили по лабиринту крыш, красных и серых, свыкшихся с непогодой, кое-где просевших под тяжестью старинной черепицы, и озаряли зеленые пирамидки древесных вершин среди частокола дымовых труб. А надо всем этим — величественные громады холмов.
Как мне повезло! Ведь это было первым, что я видел каждое утро, — после Хелен, разумеется, а уж на нее смотреть мне никогда не надоедало.
После необычного медового месяца, который мы провели, проверяя коров на туберкулез, началась наша семейная жизнь под самой крышей Скелдейл-Хауса. Зигфрид, до нашей свадьбы мой патрон, а теперь партнер, отдал в полное наше распоряжение эти две комнатки на третьем этаже, и мы с радостью воспользовались его любезностью. Конечно, поселились мы там временно, но наша верхотура обладала каким-то неизъяснимо пьянящим воздушным очарованием, и нам можно было только позавидовать.
А поселились мы там временно потому, что в те дни никто ничего наперед не загадывал, и мы не знали, долго ли останемся там. Мы с Зигфридом записались добровольцами в военную авиацию и пока числились в запасе. Больше я о войне ничего писать не стану — тем более что война прямо Дарроуби не коснулась. Книга эта о другом: в ней рассказывается о тех месяцах, которые мы с Хелен прожили вместе до того, как меня призвали, и посвящена она самому простому, из чего всегда слагалась наша жизнь, — моей работе, моим четвероногим пациентам и йоркширским холмам.
Комната эта служила нам и спальней, и гостиной, и хотя не отличалась особой роскошью обстановки, кровать была очень удобной, на полу лежал коврик, а возле красивого старинного серванта стояли два кресла. Гардероб тоже был такой старинный, что замок давно сломался, и, чтобы дверцы не раскрывались, мы засовывали между ними носок. Кончик его всегда болтался снаружи, но мы как-то не обращали на это внимания.
Я вышел, пересек лестничную площадку и оказался в нашей кухне-столовой, окно которой выходило на противоположную сторону. Это помещение отличалось спартанской простотой. Я протопал по голым половицам к скамье, которую мы соорудили у стены подле окна. На ней возле газовой горелки располагались наша посуда и кухонная утварь. Я схватил большой кувшин и начал долгий спуск в главную кухню, ибо при всех достоинствах нашей квартирки водопровода в ней не имелось. Два марша лестницы — и я уже на втором этаже, еще два марша — и я галопом мчусь по коридору, ведущему к большой кухне с каменным полом.
Наполнив кувшин, я возвратился в наше орлиное гнездышко, перепрыгивая через две ступеньки. Теперь мне бы очень не понравилось заниматься подобными упражнениями всякий раз, когда нам требовалась вода, но тогда меня это совершенно не смущало.
Хелен быстро вскипятила чайник, и мы выпили первую чашку чаю у окна, глядя вниз на длинный сад. С этой высоты открывался широкий вид на неухоженные газоны, фруктовые деревья, глицинию, карабкающуюся по выщербленным кирпичам к нашему окошку, и на высокие стены, тянущиеся до вымощенного булыжником двора под вязами. Каждый день я не раз и не два проходил по этой дорожке к гаражу во дворе и обратно, но сверху она выглядела совсем другой.
— Э-эй, Хелен! — сказал я. — Уступи-ка мне стул! Она накрыла завтрак на скамье, служившей нам столом. Скамья была такой высокой, что мы купили высокий табурет, но стул был заметно ниже.
— Да нет же, Джим, мне очень удобно! — Она убедительно улыбнулась, почти упираясь подбородком в свою тарелку.
— Как бы не так! — заспорил я. — Ты же клюешь кукурузные хлопья носом. Дай уж я там сяду.
Она похлопала ладонью по табуретке.
— Ну чего ты споришь! Садись, не то все остынет. Смиряться я не собирался, но испробовал новую тактику:
— Хелен! — сказал я грозно. — Встань со стула!
— Нет! — ответила она, не глядя на меня и вытягивая губы трубочкой. Это, на мой взгляд, придавало ей удивительное очарование, но, кроме того, означало, что уступать она не намерена.
Я растерялся. И даже прикинул, не сдернуть ли ее со стула силком. Но миниатюрной ее никак нельзя было назвать, а нам уже разок довелось помериться силами, когда спор из-за какого-то пустяка перешел в борцовскую схватку. И хотя мне она доставила много радости и я вышел из нее победителем, Хелен оказалась опасной противницей. Повторять свой подвиг рано поутру у меня настроения не было. Я сел на табурет.
После завтрака Хелен поставила греть воду, чтобы вымыть посуду — следующее дело в нашем расписании. А я тем временем спустился вниз, собрал инструменты, положил шовный материал для повредившего ногу жеребенка и через боковую дверь вышел в сад. Напротив альпийской горки я остановился и поглядел на наше окошко. Рама была приподнята, и в ней появилась рука с кухонным полотенцем. Я помахал, полотенце в ответ взметнулось вверх-вниз, вверх-вниз. Так начинался теперь почти каждый мой день.
И, выезжая за ворота, я подумал, что это отличное начало. Впрочем, отличным было все: и грачиный грай в вязах у меня над головой, когда я закрывал тяжелые створки, и душистая свежесть воздуха, мой обычный утренний напиток, и трудности и радости моей работы.
Поранившийся жеребенок принадлежал Роберту Корнеру, и едва я приехал к нему на ферму, как Джок, его овчарка, напомнил мне о своем существовании. И я принялся наблюдать за ним: ведь ветеринарный врач не просто лечит, он еще знакомится с любопытнейшим калейдоскопом характеров, пусть и принадлежащих четвероногим, а Джок, бесспорно, был оригинальной личностью.
Очень многие деревенские собаки всегда готовы немножко отдохнуть от своих обязанностей и поразвлечься. Им нравится играть, и среди их излюбленных игр есть и такая — прогонять автомобили с хозяйского двора. Сколько раз я уезжал в сопровождении косматого метеора! Промчавшись двести — триста ярдов, пес обычно останавливался и напутствовал меня последним яростным гавканьем. Но не таков был Джок.
В нем жил истинный фанатик. Погоню за автомобилями он превратил в высокое искусство, которому служил ежедневно без тени юмора. От фермы Корнера к шоссе вела проселочная дорога, почти милю вившаяся по лугам между двумя каменными оградами вниз по пологому склону, и Джок считал свой долг выполненным, только если провожал избранную машину до самого шоссе. Его неистовая страсть требовала затраты больших сил и труда.
И теперь, когда я, зашив рану жеребенка, начал накладывать повязку, я все время поглядывал на Джока. Он крался между службами — тощенький малютка, которого и заметить-то не легко, если бы не мохнатая черно-белая шерсть, — без особого успеха притворяясь, будто он на меня и смотреть не хочет, так мало его интересует мое присутствие. Но его выдавали глаза, скошенные в сторону конюшни, и то, как он все время пересекал поле моего зрения, проскальзывая то туда то сюда. Он ждал, когда же наконец наступит его великая минута.
Надев ботинки и бросив резиновые сапоги в багажник, я вновь увидел Джока, вернее, лишь длинный нос и один глаз, выглядывавшие из-под сломанной двери. И только когда я включил мотор и тронулся, пес заявил о себе: приникая к земле, волоча хвост, вперив пристальный взор в передние колеса машины, он покинул засаду, едва я набрал скорость, и устремился могучим галопом наперерез к дороге.