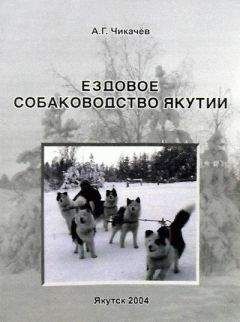Майя Фролова - Побаски кошки Мотьки
Когда она встает и перекладывает меня на диван, я ужасно злюсь. Ну зачем ты встаешь, мама? Разве тебе плохо сидеть со мной? Мне ничего другого не нужно.
Особенно я не люблю, когда мама носится по квартире в каких-то своих хлопотах, ее ноги мелькают перед моим носом, так и хочется вцепиться в них, остановить — будь со мною, мама, брось все дела!
Я даже не чувствую, что делаю маме больно, а она мажет одеколоном царапки и журит меня:
— Не могу же я сидеть целыми днями на коленях с тобой, Мотрона! Ишь какая злая, твой отец, наверное, был сиамским котом.
Кто мой отец, я не знаю, у меня есть только она, мама. Но когда звонит противная штучка на столе, мама берет трубку, говорит «Алло!» и потом долго разговаривает с кем-то непонятным, я просто свирепею. Один раз вцепилась ей в руку не только передними, но и задними лапами, зубами. Не знаю, кто меня научил, само получилось. Мама еле оторвала меня.
— Зверица ты, Мотрона! Придется йодом смазать, надо же так поцарапать! — Она даже замахнулась на меня, и я спряталась под кровать, в диван мне уже трудно залезать, я как-то незаметно очень выросла.
— Это она тебя ревнует, — объяснил Митя.
Мне непонятно, что значит «ревнует», мне жаль, что я сделала маме больно. Но ничего не могу с собой поделать, когда на меня находит такая злость. Ты сама виновата, мама, зачем так долго и громко разговариваешь с кем-то в этой трубке и не обращаешь на меня внимания?
Мой характер — не мед
Так сказала мама, когда я снова вцепилась в нее.
Мама уселась в кресло-качалку перед телевизором, и я тотчас прыгнула к ней на колени. Этого момента я всегда жду с нетерпением. Но мне хотелось на мое любимое местечко — на грудь, голову под подбородок.
Уже несколько дней у нас с мамой шла борьба, и всегда побеждала я, мама сдавалась.
Она несколько раз объясняла мне, что я выросла, стала тяжелой, заслоняю телевизор, мешаю ей смотреть. А что там смотреть? Мечется кто-то, орут или поют дурными голосами. Лучше его вообще выключить, уткнуться в маму, слушать ее дыхание, ее живое тук-тук. Лишать себя такого удовольствия — свыше моих сил.
Я прыгала к маме на колени, она клала мне на спину руку, слегка прижимала, показывая, что здесь я и должна устраиваться. Я делала вид, что смирилась. Но как только мама переставала на меня обращать внимание, я рывком кидалась к ней на грудь, терлась нежно щекой о ее шею, засовывала голову под подбородок и была уверена, что мама не сгонит меня. Так обычно и случалось.
— Скоро она у тебя на голове уляжется, — ехидничал Митя.
— Сердце не камень, — оправдывалась мама.
На этот раз она немного рассердилась, но снова стала терпеливо повторять, что я заслоняю телевизор и мое место — на коленях.
Я выпустила когти, вцепилась в кофту, мама стала отрывать мои лапы, пальцы у нее сделались жесткими, решительными.
Накатилась злость, взыграло сердце: трудно тебе перетерпеть ради меня? А еще мамой называешься! И я вцепилась ей прямо в лицо — вот тебе! Пусть тебе тоже будет больно!
— Ах ты зверица! — возмутилась мама. — Ну и характер — не мед!
Она ухватила меня сзади за шкирку, я повисла в ее руке и почувствовала, какая я стала длинная и тяжелая. Мама еще и за уши меня потрепала и отбросила от кресла. Ужасно обидно!
А я считала себя маленькой. Не хочу быть большой кошкой, хочу оставаться котенком, чтоб помещаться у маминой шеи. Как жить, не слыша маминого «тук-тук», под которое так сладко дремлется? Ведь это самое надежное место в целом мире.
Но придется смириться. Я не хочу, чтоб мама называла меня «зверицей» и трепала за уши. Не больно, конечно, но ужасно обидно.
Я заплакала, потекло из глаза. Значит, опять мама будет закапывать жгучие капли и мазать противной мазью.
Сегодня я больше не прыгну к ней на колени, пусть одна качается в своей качалке и наслаждается телевизором. Буду сидеть на диване, как сирота, и притворяться, что мне хорошо. Вдали от мамы мне всегда плохо.
А еще они оба, мама и Митя, нападают на меня за то, что я деру кресло. Но где же мне поточить когти, они так чешутся. Пробовала о дверь, но она твердая, когти соскальзывают. А в кресло вцепишься, повиснешь — красота!
Сама вижу, что кресло разлохматилось, а что делать?
Наконец мама догадалась прикрепить к креслу толстую суконку. Теперь можно болтаться сколько угодно, никто не вопит — брысь!
Неужели я была человеком?
Мама поставила возле батареи низенький стульчик, положила шарф — спи, Мотечка!
Иногда днем я и прилягу на этот стульчик, наблюдаю, как мама возится у плиты. Но ночью — извини, дорогая мама! — почему я должна лежать одна на этом шарфе, хотя и возле теплой батареи? Разве ты забыла, что мы всегда спали вместе?
И как только у маминого изголовья гаснет лампочка и она перестает шуршать книгой, я подбираюсь сначала к ее ногам, будто там и укладываюсь, но сама потихоньку ползу и оказываюсь у маминой груди, сую голову под подбородок.
Вот теперь можно спокойно спать!
«Ну и хитрица ты, Мотька!» — сонно бормочет мама и тоже засыпает.
Она часто что-то пишет за столом. Я ложусь перед нею и наблюдаю, как бегает ручка по бумаге, иногда лапка сама тянется — потрогать. Хочется поиграть, но мама не позволяет: «Сиди смирно, не мешай работать». Приходится сидеть и ждать, когда она закончит. Но только она кладет ручку и откидывается на стуле, я вскакиваю к ней на шею, начинаю мурчать для нее. Теперь можно? Теперь ты меня не сгонишь?
Мама ворчит, что я тяжелая и уже давно не умещаюсь на шее, но все-таки немножко разрешает мне там понежиться, как раньше.
Люблю разглядывать мамино лицо. Хлопают ресницы, шевелятся губы. Но особенно забавляет меня то, что торчит посредине, между глазами. Называется нос.
Сама не знаю, почему я вдруг ухватилась зубами за острый кончик и просто подержала во рту, не укусила, маме было бы больно.
Но мама была ошарашена.
— Вот это новости! Ты еще и кусаться вздумала!
А Митя сказал:
— Это она от чрезмерной любви к тебе.
Он, конечно, прав: я бы прилепилась к маме когтями и зубами на веки вечные. После этого я даже стала лучше относиться к Мите, ведь он меня понял. Да и дразниться он давно перестал. Наверное, привык ко мне, как я к нему.
Вот с едой у нас проблемы. Почему-то мне больше не нравится молоко, оно скисает в блюдечке. От колбасы пахнет чесноком. А суп мне лучше и не показывать. Фыркну и отойду, хотя мама нахваливает и меня упрашивает: «Ну, попробуй!»
Только «собачья радость», как мама называет тонкую серую колбасу, мне по вкусу. Мягкая и чесноком не воняет.
— Нельзя же есть одну ливерку! — сердится мама. — Пища должна быть разнообразной.
— Кошачьи причуды, — смеется Митя, — а ты ей объясняешь, будто она понимает.
— Конечно, понимает. С животными, как и с детьми малыми, нужно разговаривать, объяснять. Они хорошо улавливают суть.
Ты умница, мама! Разве трудно понять, когда ты зовешь — иди сюда! Или отворяешь дверь на балкон и посылаешь меня: иди, Мотя, погуляй. Мама говорит всегда ласково, смотрит мне в глаза — сразу все понятно. Но и слов я знаю много: «на», «колбаска», «молоко», «зверица», «брысь», «сердечко», «иди сюда», «погуляй»…
Однажды мама стряпала что-то необыкновенно вкусное. Мне кажется, когда-то я уже ощущала этот замечательный запах.
Мама стучала сбивалкой в высокой кастрюльке. Оттуда вылетали брызги, и я их с жадностью слизывала. Чтоб доставать, пришлось подняться на стуле на задние лапы, передними упереться в край стола.
Мама строго-настрого запретила мне прыгать на стол, но на этот раз не согнала меня и даже ложку с остатками сунула под мой нос — оближи.
— У тебя, Мотюша, странный вкус. Колбасу не ешь, молока не пьешь, а на сладкое набросилась.
Позже, когда что-то замечательно вкусное, коричневое, лежало на круглом блюде и мама с Митей пили чай, я снова взобралась на стул и посмотрела на маму с укоризной: а меня почему не угощаете?
Мама положила кусочек на свою ладошку, и я съела с наслаждением, все крошки подобрала.
— Может, ты раньше была человеком? Может, ты и конфеты любишь?
Мама шуршит бумажкой, что-то разворачивает, откусывает и протягивает мне. Тоже вкусно и пахнет хорошо, почему бы и не слизнуть?
Теперь мы с мамой конфеты едим вместе, пополам, а плоскую ириску она кладет целиком, это моя любимая конфета. Ее можно лизать долго, медленно, со вкусом, пока не пролижется дырка посредине.
Конфетные бумажки мама не выбрасывает, она знает, что это моя любимая игра — гонять их по полу. Скрутит она из них шарик и бросит мне, я перегоняю его с одного места на другое, беру в зубы и перетаскиваю в другую комнату, засовываю под ковер, а потом делаю вид, что оно само там от меня спряталось, ищу во всех углах, вздымаю ковер комом.
Митя сердится, а мама снова повторяет, что я наверняка была человеком.