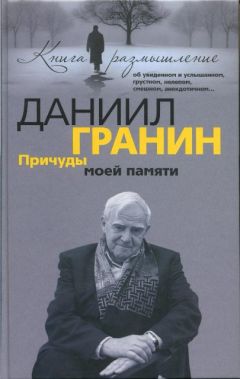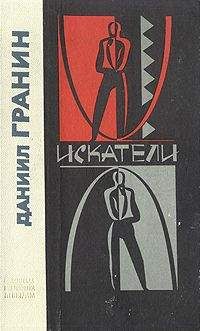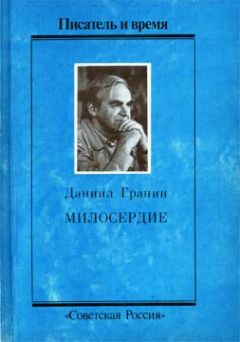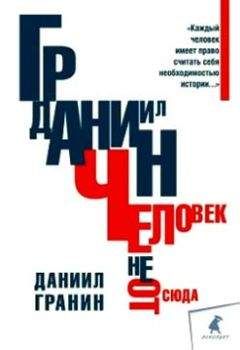Даниил Гранин - Причуды моей памяти
Но вдруг остановилась, вгляделась. Что-то не так, спросила она, что меня смущает? Значит, это все же торчало из меня. Я чувствовал, что погружаюсь, и думал о том, что чем дальше, тем труднее будет вылезти. Спросил Юлю про жилье, зачем спросил, не надо было спрашивать. Она рассказала, что там не бывает коммуналок, квартира там, может три комнаты, гарантировала ванну. Рассказывала о правилах советских представителей. Когда я уходил, она вдруг расплакалась. «Что ты», — спросил я. Она ничего не ответила, замахала рукой — уходи, уходи. Я шел мимо бесконечных книжных стеллажей, пахло книжной пылью, о чем-то я догадывался — тоска, зависть, воспоминания…
Римма восприняла новость куда спокойнее, чем я ожидал, как будто нечто подобное мне полагалось. Для нее главным оказалось то, что для Маринки будет детская, солнце, тепло. Лишь бы выбраться из этой сырой коммуналки, где стены цвели плесенью и мои ботинки то и дело становились зелеными. Я рассказывал ей про вид на Неаполитанский залив, пинии на бульварах, я извлекал из юлиных альбомов эту туристскую красоту. Зачем я это делал? Наверное, уговаривал сам себя. Все было за отъезд, все. Разве только одно — то, что по ночам я писал свой роман, первый роман.
Но какую это роль могло играть? В мой литературный талант Римма не верила, для нее я существовал как инженер, она сама была инженер, и я был инженер — это было понятно. Недавно я напечатал статью в журнале «Электростанции» про свои электросети, чего то я там придумал, это было настоящее дело, она понимала, по какой дороге я иду.
Италия появилась, как сказочное видение, но на той же самой дороге, это было все равно как попутка, счастливый случай, нам повезло, несбыточная жизнь вдруг приоткрылась перед нами. Римма внимательно уточняла, не доверяя ни мне, ни себе, я уверял, что ни о чем знать не знал, это как с неба свалилось — белый город на берегу моря, кажется, Усов назвал Геную. Или Ливорно? После Юлиных альбомов все запуталось: Адриатика, Венеция, Тирренское море, Флоренция. Римма повторяла за мной эти прекрасные мелодичные имена.
С работы я приходил поздно, ужинал, ложился вздремнуть и ночью, когда стихнет, садился к столу. Иногда и ночью, если случалась крупная авария, мне звонили. Телефон был накрыт одеялом, я нырял под него и тихо отвечал диспетчеру. Происходила реконструкция поврежденных в блокаду подстанций.
Между тем в романе шли свои события, герои не считались с тем, чем занимался автор, они требовали все больше внимания. Совмещать роман с моим кабельным районом у меня уже не хватало сил. Уйти с работы значило лишиться зарплаты. И что, сесть на шею Римме? А уверен ли я, что роман получится?
Вопрос этот она не задавала, она знала, что я не мог на него ответить, но когда я написал заявление, она сказала, что ладно, как-нибудь перебьемся, хватит надрываться, или разрываться, точно уж не помню, словом, мы решились. И тут на нас обрушилась эта Италия.
Италия избавляла от всех проблем, избавляла от очередей и плесени, от возни с дровами и с печкой, она позволяла покинуть этот напуганный, пришибленный «ленинградским делом» город и уехать от арестов в неведомую новую нашу жизнь; было сладко, что мы возьмем с собой, что оставим здесь. Я-то думал о своем — я думал о рукописи, есть ли смысл везти ее с собой, что с ней там будет. Посреди ночи, уже под утро, Римма разбудила меня: «Знаешь, я передумала, — сказала она, — все таки тебе надо закончить роман».
— Что на самом деле вас держит? — спросил меня на следующий день Усов.
— Язык… Другие правила…
Сергей Васильевич махнул рукой.
— Ерунда… Освоите, деваться-то некуда.
Он подождал, нахмурился…
— Учтите, есть дисциплина, партийная и прочая. Пошлем вас в командировку, и конец вашим сомнениям.
Может быть, так и следовало со мной поступить. Сергей Васильевич присмотрелся к моей физиономии.
— А еще что?
Я неохотно признался ему про роман. Седые брови его поднялись.
— Роман?..
Последовал проклятый вопрос насчет того, уверен ли я, что ради этой синей птицы стоит отказываться от такого предложения.
— Да, уверен.
Неуверенность еще много лет будет сопровождать каждую мою новую работу, но в ту минуту она исчезла. Я даже подумал, что все к лучшему, теперь отступать некуда, во что бы то ни стало я должен добиться своего. Что означало «своего», я не знал.
Роман «Искатели» был напечатан в журнале «Звезда» и вскоре вышел книгой. Первый экземпляр я преподнес Римме. Мы все еще жили в той старой коммуналке.
Вторую книгу я привез Сергею Васильевичу.
ПО ПОВОДУ СМЫСЛА
То, что я понял в этой жизни, восходит к таким проблемам, как смысл жизни: зачем мы живем? Чего мы хотим от жизни? Вещи коренные и, к счастью, безответные. И думая, что, к счастью, если бы был установлен раз и навсегда смысл человеческой жизни, то он мог бы стать всеобщим правилом, всеобщим законом, и жить стало бы неинтересно. А уж что касается искусства… Оно бы навсегда осталось без работы.
Но, славу Богу, смысл жизни каждый определяет сам. Кем-то он выстрадан, кем-то понят, а большей частью не понят. Потому что люди не отдают себе в этом отчета, не хотят отдавать отчета, и, может быть они в этом правы.
Что же я понял в этой жизни? Подводить итоги ужасно трудно. Потому что, хочешь — не хочешь, надо признаваться — далеко не все получилось. И то не вышло, и это.
Было много вариантов жизненаполнения, которое всякий раз казалось первоочередным и самым важным. В какой-то момент я со страхом решил: надо писать, надо попробовать. Никаких гарантий нет. Кто я такой? Инженер. На это есть диплом. А на писателя ни диплома, ни справки, ничего.
Я понял когда-то, что писать надо не вообще, а надо писать о чем-то, ради чего-то. Хотелось пробудить в людях стремление к творчеству. Это делает человека более свободным. Творческий человек — это наиболее красивый человек. Человек создан для творчества. Только в творчестве он себя и реализует. Такую возвышенную цель для себя сформулировал, мне мало было просто желания писать. Обязательно надо было понять — во имя чего.
В какой-то момент, когда я был на войне, я понял, что главное — это выиграть войну, добиться победы. Чтобы страна стала свободной, чтобы не было ужаса оккупации и так далее. Перед этой задачей отступали все остальные. Но кончилась война, и жизнь опять стала требовать какого-то осмысленного продолжения.
Так что время от времени появлялись разные осмысления жизни: что в ней главное, для чего она существует?
Но вот сейчас, когда мне много лет, когда жизнь подходит к завершению, оглядываясь назад, я понял то, чего раньше не то что не понимал, но считал, что это не главное. Я понял, что главное в жизни, в моей жизни, для меня — это любовь. Можно по-разному расширять это понятие: любовь к женщине, любовь к детям, любовь к своим друзьям.
Это не значит, что все, что я понимал раньше, было неправильным. Никогда не знаешь, когда ты был прав: когда тебе было двадцать лет, когда тебе было пятьдесят лет? У каждого возраста, наверное, своя правота и своя истина есть. Но сейчас, когда кажется, что ты можешь оценить всю прожитую жизнь, когда кажется, что ты сейчас самый мудрый из всех тех других сущностей, которые проявлялись в твои двадцать, сорок, шестьдесят лет, сейчас-то я точно знаю, что является настоящей истиной. И я говорю: самое главное в жизни — любовь!
Как написал поэт: «И море движется любовью». Все, как мне нынче видится, все любовь, все движется любовью. Ничего более осмысленного нет. Слава, деньги, должности, написанные книги и всякие другие реализации ничего не значат по сравнению с этим.
Может быть… Может быть, любовь — это лучшее, что способен дать человек другому человеку, людям. Это гораздо больше, чем всякое другое творчество. Ну хорошо, научное творчество, искусство. Одна книга, десять, двадцать книг. Но и в искусстве самые лучшие моменты связаны с любовью. У того же Пушкина. Наиболее красиво и счастливо он раскрывался в любви. То же относится ко всем великим художникам. Я думаю, что то же самое относится к любому виду деятельности, да и вообще к любой жизни.
Когда подводишь итог, оказывается, что все, даже лучшие твои достижения, все это временно, все это уносится рекой времен, и остается только то, что ты пережил, когда ты был лучше всего, когда ты был в наибольшей степени самим собой и в ответ получал ту же наивысшую радость настоящего, подлинного.
Есть люди, которые никогда не любили по-настоящему и полноты этого чувства не знают. Это потеря. Горькая. Жизнь оказывается ущербной. Я не имею права осуждать этих людей, говорить, что это люди неполноценные. Но жаль, что они не осуществили себя, того прекрасного, что расцветает в любви. Если челвек не любил, он не жил. Он работал, чего-то достигал, но в каком-то большом смысле это движение на месте и труд вхолостую.