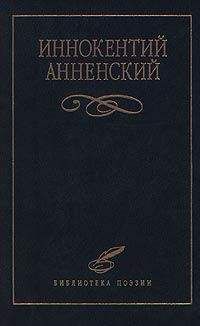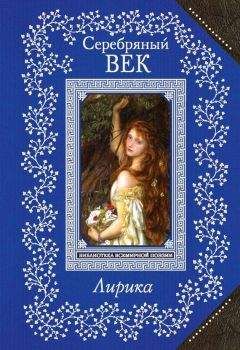Вячеслав Гречнев - Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв.: Л. Толстой, И.Бунин. Г. Иванов и др.
Нет, куранты играют «Интернационал» (3, 118).
Есть точка зрения, согласно которой искусство нам дано, чтобы не умереть от истины, и в развитие её: произведение искусства порождается отказом ума объяснять конкретное. Нечто общее, что сближает искусство с воспоминаниями, несомненно, есть, и, прежде всего, — присущий им элемент вымысла. Место и роль его в том и другом случаях, разумеется, сугубо специфические, и говорить здесь можно лишь о наличии вымысла как такового. И, конечно, меньше всего ожидаешь встретить его в воспоминаниях, хотя и понимаешь, что далеко не всё помнится из жизни былой, да и время вносит свои поправки, в силу чего многие факты и события обретают иной смысл и оценку. Очень верно кто-то заметил: «Прошлое — чужая страна, там всё по-другому».
«Воспоминание, — по словам Н. Бердяева, — не есть сохранение или восстановление нашего прошлого, но всегда новое, всегда преображенное прошлое. Воспоминание имеет творческий характер. Парадокс времени в том, что, в сущности, прошлого в прошлом никогда не было, в прошлом существовало лишь настоящее, иное настоящее, прошлое же существует лишь в настоящем…
Проблема отношения настоящего и прошлого имеет двоякое выражение. Как сделать бывшее, греховное, злое, мучительное бывшее не бывшим, и как сделать дорогое нам, прекрасное, доброе бывшее, что умерло и перестало существовать, продолжающим существовать… Родное, дорогое нам, ценное настоящее должно было бы быть вечным, для него не должно было бы наступать то будущее, которое делало бы его прошлым» [335].
Названный выше сборник стихов Г. Иванова «Розы» (и, разумеется, всё написанное им в последующие годы), можно сказать, пронизан подобными воспоминаниями о прошлом, о жизни в России, о её радостях и печалях, о том, что довелось увидеть и пережить, и о том многом, нередко, исключительно важном и ценном, что уяснилось гораздо позднее, и о том, что было, но бесследно исчезло.
Известно, что человек, покинувший свой дом родной, вновь и вновь в своих мыслях и чувствах пытается вернуться в те такие близкие и уже далекие времена, чтобы хоть на короткий миг снова оказаться, среди своих бывших современников, приобщиться к той жизни, которая здесь когда-то шумела, чтобы оттуда посмотреть в будущее, еще недавно такое неясное, а теперь ставшее не только вполне обозримым, но и, как в данном случае, ненавистным настоящим.
С годами всё больше крепнет мысль, что никогда не вернуться ему в это прошлое — настоящее, ибо нет прежней России, а, следовательно, нет и своего дома. По словам Г. Иванова, «большевики разрушили систематически всё, на что опиралась русская жизнь: церковь, семью, чувство, человеческое достоинство, честь, самый разум» (3, 580). Понятно, что если рушится тот мир, в котором ты жил, то и ты, пусть и не всегда в прямом смысле, умираешь с ним: «Должно быть, сквозь свинцовый мрак, На мир, что навсегда потерян, Глаза умерших смотрят так» (1,277).
Взгляд умерших — взгляд особый. Можно предположить, что в нем преобладает черно-белый цвет, вековечная безнадежность и нежная печаль. И потому, конечно, в этих стихах и обычно радующая человека «полоска рассвета», и земля, дающая ему жизнь и затем укрывающая его после смерти, видятся «злой и грустной» (1, 274). Иначе говоря, обычные слова теряют свой привычный смысл, и это неудивительно, ибо связано с принципиально новым видением и пониманием важнейших, сущностных проблем человеческой жизни.
Насилие и смерть принесла человеку новая власть и потому абсолютно всё: и кровь, и мосты над Невой приобретают черную окраску. Оставляет человека и его ангел-хранитель. И самое, пожалуй, главное: существенно меняется течение времени. Как известно, для «умершего», а в данном случае — для потерявшего свою родину человека, время останавливается, он теперь, если угодно, внутри вечности, и ему отныне не дано, да и не интересно знать, какое тысячелетье на дворе.
Черная кровь из открытых жил —
И ангел, как птица, крылья сложил…
Это было на слабом, весеннем льду
В девятьсот двадцатом году…
……………………………………………..
Над широкой Невой догорал закат.
Цепенели дворцы, чернели мосты —
Это было тысячу лет назад,
Так давно, что забыла ты (1,265).
Следует признать, что это своеобразное летоисчисление способно обесценить не только хорошо известные, но и самые дорогие слова.
«Рассыпаются слова И не значат ничего»: будь то «история и человечество», «изгнание или отечество», «надежда, отчаянье, вера, неверие». И никак не понять — что это: «беспамятство или мучение», «где все, навсегда потеряло значение» (1,262). И подобным превращениям нет конца: еще вчера знакомое, родное лицо, сегодня — «уже чужое»; еще недавно представлялось, что твое прошлое навсегда с тобой, а теперь оказалось: «Это только сон во сне. Звезды над пустынным садом Розы на твоем окне» (1,267); разительно поменялось и представление о доме родном: теперь с ним связана не земная жизнь, а — предстоящая, вечная: «Ближе к снегу, к белой пене, Ближе к звездам, ближе к дому» (1, 270). Да, «рассыпались» слова и уходило из жизни человека что-то очень важное. «Страсть»? Нет и страсти. «Власть»? «Нет и власти Даже над самим собой». Нет и счастья — оно «выпало из рук. Камнем в море утонуло» (1,282).
Да, отношение к жизни, как в бытовом, так и бытийном проявлении, определяет и отношение к слову. И наоборот. Взаимосвязь здесь очевидна, ибо, как заметил Ницше, «вечные вопросы ходят по улице». Человек на чужбине, в том же Париже, близок к пониманию, что его одиночество и неприкаянность («По улицам рассеянно мы бродим, На женщин смотрим и в кафе сидим») обусловлены в основном тем, что он не находит «настоящих слов», а «приблизительные» больше не желает употреблять. Об этом же размышляет и его герой в «Распаде атома»: «Я хочу забыть, отдохнуть, сесть в поезд, уехать в Россию, пить пиво и есть раков теплым вечером на качающемся поплавке над Невой. Я хочу преодолеть отвратительное чувство оцепенения: у людей нет лиц, у слов нет звука, ни в чем нет смысла. Я хочу разбить его, все равно как. Я хочу просто перевести дыхание, глотнуть воздуху. Но никакого воздуха нет». И еще: «Душе страшно. Ей кажется, что одно за другим отсыхает всё, что ее животворило. Ей кажется, что отсыхает она сама. Она не может молчать и разучилась говорить» (2,15. 18). «Настоящие слова», как и воздух для жизни, остались в России, Петербурге, куда дорога навсегда заказана.
И что же делать? В Петербург вернуться?
Влюбиться? Или Опера взорвать?
Иль просто — лечь в холодную кровать.
Закрыть глаза и больше не проснуться… (1,280).
Отношение к России у Г. Иванова не было однозначным и простым Он, как и упоминавшийся выше С. Л. Франк, склонен был «полагать, что часть вины за то, что произошло на их родине, была и на нем, на них, покинувших её. «Все мы герои и все мы изменники, Всем, верим словам. Что ж, дорогие мои современники, Весело вам? (1, 303). Горькие воспоминания о невосполнимых утратах лежали тяжелым грузом на душе, порождали ощущение зависимости, чувство весьма обременительной несвободы. Отсюда столь понятное стремление напрочь забыть особенно тревожившие факты и события из этого прошлого. Но было и не менее сильное желание понять и определить причину причин поистине катастрофических последствий деятельности как старой, так и новой власти, и подвластного ей исполнителя всех этих событий, связанных с войнами и революциями.
В известном стихотворении Г. Иванова «Свободен путь над Фермопилами» есть такие строчки: «А мы — Леонтьева и Тютчева Сумбурные ученики — Мы никогда не знали лучшего, Чем праздной жизни пустяки. Мы тешимся самообманами»… А «за морями-океанами Видна блаженная страна:
Стоят рождественские елочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.
Они ныряют над могилами,
С одной — стихи, с другой — жених»… (1, 387).
«Сумбурные ученики», можно предположить, «ученики», которые в свое время не смогли по достоинству оценить произведения этих выдающихся предшественников, т. е. соотнести прочитанное с особенностями национального развития России, жизни и характера русского человека. Интересна в этом плане статья Г. Иванова о К. Леонтьеве «Страх перед жизнью» (1932). Он напоминает в ней о том, что и при жизни и какое-то время после смерти К. Леонтьева его плохо понимали, но много ругали, а в XX веке вдруг обнаружилось, что «совпадение политических теорий Леонтьева с «практикой» современности прямо поразительно» [336]. Иными словами, «политические теории», которые еще недавно принято было называть «реакционными», в годы двоенные и пореволюционные, дали и материал и повод к совсем иному осмыслению. Едва ли ни в первую очередь это было связано с тем, что обычный человек, непосредственный участник мировой войны и революций, и — не только в России, проявил себя с самых, порой, неприглядных, низменных сторон, и потому вызвал глубокое разочарование и повсеместное осуждение.