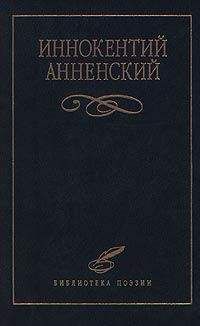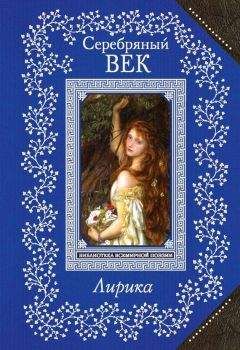Вячеслав Гречнев - Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв.: Л. Толстой, И.Бунин. Г. Иванов и др.
Как уже отмечалось, особое, исключительное внимание Бунин уделял категории времени прошедшего и в связи с этим высоко ценил воспоминание, которое позволяло обрести и сохранить утраченное, и в этом прошлом обнаружить «вечно-настоящее». Бунин нередко размышляет о том, что прошлое, и даже давно минувшее продолжает и, подчас, самым активным образом вмешиваться в настоящее, воздействовать на него, так или иначе влиять на человека или принимать какое-то участие в его жизни, а то и непоправимо портить её. Это касается и давно потухших звезд, свет которых мы продолжаем видеть; это имеет отношение и к истинной красоте, для которой нет срока давности; это и просто след от некогда живших «избранных» людей, они, как и красота, делают жизнь ныне живущих более осмысленной и человечной.
Об этом размышляет Бунин в своем стихотворении «Огни небес» (1903-1904):
Та красота, что мир стремит вперед,
Есть тоже след былого. Без возврата
Сгорим и мы, свершая в свой черед
Обычный путь. Но долго не умрет
Жизнь, что горела в нас когда-то (1, 200).
Бунин не раз возвращается к мысли, что все, что было в прошлом, навеки уходит, и в то же время навсегда остается в памяти и любви оставшихся. «Нет, мертвые не умерли для нас!», — говорит он в стихотворении «Призраки»: нас навещают их тени, мы слышим звуки арфы, на которой они когда-то играли, мы помним сказки и предания, оставшиеся после них. «Мы в призраки не верим; но и нас Томит любовь, томит тоска разлуки». Такова эта особенность любви к ушедшим: о них напоминает абсолютно все в этом мире, где они были вместе в том настоящем, которое стало прошлым. И если когда-то на этом пути в их совместной жизни с той, которая теперь «забыта» и «бесконечно далека», встречалось море и бегущие волны, то теперь «волны, пенясь и качаясь Идут, бегут навстречу мне — И кто-то синими глазами Глядит в мелькающей волне. И что-то вольное, живое, Как эта синяя вода, Опять, опять напоминает To, что забыто навсегда!» (1, 226). Не оставляет эта память о навеки минувшем не только наяву, но и во сне: «Мне снилось северное море, Лесов пустынные края… Мне снилась даль, мне снилась сказка — Мне снилась молодость моя» (1, 203).
Понятно, что жизнь, которая осталась в прошлом, и жизнь сегодняшняя разительно отличаются: они ведь даются в воспоминаниях человека, в определенном смысле, перешедшего из века минувшего в век нынешний. Ясно, что в прежней жизни задавала тон нацеленность на счастье и связанное с этим особая обостренность в восприятии мира во всем его многоцветии, когда казалось, что «в мире жизни нет: Есть только блеск, лазурь и воздух ясный, Простор, молчание и свет» (1, 202). В жизни, которая вся уже на исходе, преобладают совсем другие краски, запахи и настроение. Да, жизнь продолжается, но только за стенами дома тех его обитателей, про которых говорят теперь: жили — были… Вокруг их дома «клены и осины, Приюты горлинок шиповник, береклест… А в доме рухлядь, тлен: повсюду паутины. Все двери заперты… и так уж много лет» (1,210).
Снова и снова, как видим, Бунин всматривается в то, что составляет главную заботу и печаль человека: вот она, жизнь, только что начиналась и была и вдруг, оказывается, всё позади, продолжаться больше нечему. И так же, неизвестно в какой раз, стремится он найти соответствующий образ, который позволил бы ему более точно и зримо изобразить само движение жизни к финалу, то, как она идет, проходит и исчезает во тьме. Именно об этом, как представляется, его стихотворение «Огонь на мачте» (1905):
И сладостно и грустно видеть ночью
На корабле далеком в темном море
В ночь уходящий топовый огонь…
Идет огонь — как свечечка. Ни звука
Не слышно на прибрежье, — лишь сверчки
Звенят… чуть уловимым звоном,
Будя в душе задумчивую нежность,
А он уходит в ночь и одиноко
Висит на горизонте, в темной бездне
Меж небом и землею… (1, 213-214).
Да, жизнь проходит, а печаль в душе усиливается, обостряется и чувство одиночества, ибо все больше появляется проблем, в решении которых уже никто и никогда помочь не сможет, разве что сверчки, «товарищи ночные», попытаются убаюкать эту боль-печаль.
Понятно, что вопросы, волнующие Бунина, остаются, они, что называется, безответные, и ему, поэту, это хорошо известно. В самом деле, куда уходят дни и почему они уходят без нас? Или мы уходим, а дни остаются? А время — оно переходит в вечность, но как именно и почему, опять же, без нас? И почему оно, время, вечно-настоящее, а человек через каждую секунду уже в прошлом? И снова задумывается над этим Бунин в своем стихотворении «В горах» (1903-1904):
Катится диском золотым
Луна в провалы черной тучи,
И тает в ней, и льет сквозь дым
Свой блеск на каменные кручи.
Но погляди на небосклон:
Луна стоит, а дым мелькает…
Не время в вечность убегает,
А нашей жизни бледный сон! (1,205).
Глава Девятая
О ПОЭЗИИ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА
Перед отъездом в эмиграцию Г. Иванов простился с близкими ему людьми и дорогими сердцу местами. «Летний сад лучит уже по-осеннему. Инженерный замок в красном цвете заката. Как пусто! Как тревожно! Прощай, Петербург!..» [325]. В этом прощании есть печальное предчувствие, но есть и понимание, что иного пути нет, и есть робкая надежда, что это бегство от голода, холода и всевозможных насилий новой власти мера вынужденная и временная. Но, когда отъезд состоялся, мысли и чувства его обрели совсем иную тональность и направленность.
На пароходе, который увозил его из России, он к своему удивлению «никакого чувства освобождения, легкости, радости» в себе не обнаружил. «Даже наоборот. Конечно, теперь я курил папиросы с золотым мундштуком вместо махорки, конечно, я был свободен, конечно, я ехал в Берлин, в Париж, где я мог делать, что хочу, где никто не мог меня вдруг арестовать, сослать, расстрелять. Все это было так. Но сознание это было каким-то бесцветным, отвлеченным, бесплотным, не имеющим цены. Реальными были: резкий ветер, мокрая палуба, хмурые волны да еще тревожный вопрос: неужели Россия потеряна для меня навсегда?» (3, 454).
Гораздо позднее, незадолго до смерти, когда надежда на возвращение уже давно была утрачена, он снова вспомнит свой отъезд и пожалеет, что простился совсем не так, как следовало бы.
Я, что когда-то с Россией простился
(Ночью навстречу полярной заре),
Не оглянулся, не перекрестился
И не заметил, как вдруг очутился
В этой глухой европейской дыре (1,401)…
В эмиграции, в отличие от многих соотечественников, Г. Иванов с женой И. Одоевцевой устроились вполне сносно и даже – больше того. По её словам, несчастья и бедность свалились на них гораздо позднее, где-то в конце сороковых годов, а до того: «Жили мы вполне комфортабельно на ежемесячную пенсию отца моего, сохранившего в Риге доходный дом. А когда отец в сентябре 1932 года умер, мы получили большое наследство и зажили почти богато – в роскошном районе Парижа, рядом с Булонским лесом. И замечательно обставились стильной мебелью. Даже завели лакея. А, кроме того, я накупила золота» [326].
Известна точка зрения, которую предельно ясно выразил А. Блок «Чем холоднее и злее эта неудавшаяся личная жизнь (но ведь она никому не удается теперь), тем глубже и шире мои идейные планы». Это высказывание невольно вызывает в памяти так называемых «проклятых поэтов», к которым можно причислить Блока и нередко относили Г. Иванова. Приведенный выше отрывок из воспоминаний И. Одоевцевой как раз и содержал полемику с подобным мнением. «В последний период жизни, — пишет она, — с чьей-то нелегкой руки его стали называть «поэт-maudit» и сокрушаться о его горестной судьбе. За ним это закрепилось надолго. Однако он отнюдь не был отверженным или неудачником. Скорее наоборот, баловнем судьбы, может быть, лишь за исключением последних лет своей жизни… Но, как ни странно, он даже с некоторым удовольствием принимал это прозвище» [327].
Был ли Г. Иванов «баловнем судьбы»? Можно ответить двояко: был, если иметь в виду материальное благополучие, не был, если говорить о его душевном настрое и духовных устремлениях. Каковы же были они, его мысли, настроения и чувства, уже в первый период его эмигрантской жизни, в пору создания сборника «Розы» (1931), во многих отношениях и нового и новаторского?
«Былая петербургская поэзия Иванова, — писал Р. Гуль, — это вещная, предметная лирика («дух мелочей прелестных и воздушных») была поэзией только «своего круга» и за него не выходила…