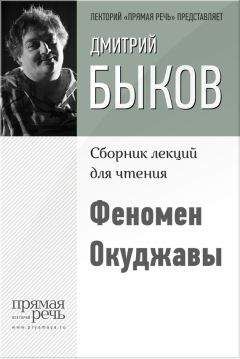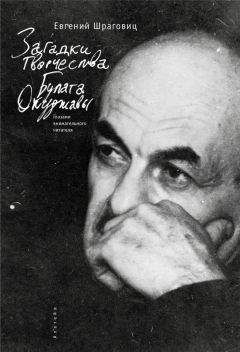Станислав Рассадин - Книга прощания
…Молодая да комсомолочка жулика хоронит.
Усложнившийся мир, нарушенные границы, психологическая ненормативность…)
Нельзя не добавить, что песня типично советская (чей коллектив, вернее, ориентир – «народ», то есть тот образ человеческой протоплазмы, чьи очертания директивно определены «партией и правительством») по-своему замечательно использовала изначальное свойство песенной поэтики. Лучший советский песенник Исаковский способен создать потрясающее «Враги сожгли родную хату…», на ощупь, как и должен делать поэт, найдя опору - поездной, нищенский фольклор, преследующий цель разжалобить, упросить граждан войти в положение (отсюда – «бутылка горькая», «серый камень гробовой»), но как часто его тексты стерты до полной безликости, слащавы до приторности. Каков и сам по себе официальный образ «советского народа».
(Опять замечание в скобках. Когда Маяковский, решив уйти из жизни, оставил записку – завещание не столько поэта, сколько государственного человека, строго законопослушного: «Товарищ правительство, моя семья – это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь – спасибо…В столе у меня 2000 руб. – внесите в налог» и т. д., это предсмертное распоряжение, опубликованное в газетах, немедля запели в поездах беспризорные. Конечно, переиначив:
Товарищ правительство,
пожалей мою маму
И белую лилию, сестру.
В столе лежат две тыши,
Пусть фининспектор взыщет,
А я себе спокойненько помру.
Мало того что эмансипированная Лиля Юрьевна преображена в вечный символ женского целомудрия, в лилию – белую! – но и обращение к властям превратилось в просьбу, единственно возможную для взаимоотношений «маленького человека» и государства: «Пожалей…»)
Совершая необязательный забег вперед, можно присовокупить: коллектив и ориентир современной попсы – увы, быдло…
Ориентир и «народ» Окуджавы – они каковы?
А что я сказал медсестре Марии, когда обнимал ее?
– Ты знаешь, а вот офицерские дочки на нас, на солдат, не глядят.
Что здесь – поначалу? Бестактность, бессердечность мальчишки, не замечающего, как унижает легшую с ним женщину. Но далее будут: «поле клевера… тихое, как река», волны, качающие его и ее, голубые глаза Марии, ставшие черными и бездонными. Будет не жалкий солдатский секс, а нечто поднимающее обоих над скудной плотской забавой.
И вот после этого, после такого:
И я сказал медсестре Марии, когда наступил рассвет:
– Нет, ты представь: офицерские дочки на нас и глядеть не хотят.
Поздно, многие годы спустя осознанная вина. Поздно пришедший стыд. Поздно, когда уже не исправить сказанного, не искупить душевной грубости. Вот рефлексия интеллигента. Мука индивидуальности. Самосознание, вернее, самоосознание личности.
А «Прощание с новогодней елкой»? Горький упрек «кавалерам», которым вчера еще льстила рифма «гренадеры» и кто нынче предал предмет своего обожания:
Нет бы собраться им – время унять,
нет бы им всем – расстараться…
Но начинают колеса стучать:
как тяжело расставаться!
Но начинается вновь суета.
Время по-своему судит.
И в суете тебя сняли с креста,
и воскресенья не будет.
В варианте начальном было: «И, как Христа, тебя сняли с креста…», и я, признаюсь, тут решился на вмешательство. Что позволял себе редко, практически не позволял, – не считая 1958-1959 годов, когда лез с советами бесцеремонно.
Почему – не позволял? (В сущности, не делая того, что человек, считающий – точнее, считавший – себя критиком, специализирующимся на поэзии, даже должен делать по профессиональной обязанности.)
Потом прочту в дневниковых записях Давида Самойлова: «Булат Окуджава весь построен на неточности слова»…
Звучит – уничижительно? Нет, ибо, во-первых, «неточность» обычно осознана (вспомним – см. начало книги – «комсомолочку», подменившую «проституточку» в якобы блатной песне), а во-вторых, вот продолжение самойловских слов: «Точно его состояние. Поэтому его песни невозможны в другом исполнении».
Последнее неоспоримо, если б не исключения, как водится, подтверждающие правило (Анатолий Аграновский, Никитины, вероятно, Камбурова). А «неточность слова» в сочетании с точностью состояния – это и с точки зрения самойловской поэтики… Ну, не знаю. Прихотливость? Неожиданность? Странность – но странным же образом внутренне обоснованная?
Как бы то ни было, Окуджава отказался от грубоватой внутренней рифмы и, главное, от прямолинейного уподобления елки – Иисусу. Ассоциация стала тоньше, неуловимее: «воскресенье», «крест» – то ли это намек на Голгофу, то ли всего лишь крестообразное подножие новогодней, рождественской ели. Такова сложная, деликатная поэтика стихотворения, где и ель – подобие женщины, напоминание о ней.
А христианская символика здесь – как вообще в русской поэзии – наиболее несомненное воплощение муки и вины. На вершине – мука Распятого и вина распявших (или допустивших распятие), в обыденной жизни – множество наших мук и наших провинностей. В частности, перед женщиной, перед женщинами…
И все это в целом – песня, которую всякий… Хорошо, пусть не всякий, но близкий по духу может ощущать как свою. Да, как фольклорную – но в границах интеллигентности, свойства, которое Окуджава отказывается воспринимать как принадлежность касты. В котором он видел – помимо больной совести – то, что, впрочем, от совестливости неотделимо: «способность сомневаться в собственной правоте и отсюда склонность к самоиронии».
Склонность, им самим явленную неоднократно.
А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа.
…Извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается…
Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдет.
Не всем, кто помнит эти строки, исполненные веры в чудо, известны другие, полудомашние, одноразово спетые Окуджавой на двадцатилетнем юбилее театра «Современник».
Сам я там не был. Привожу их – целиком – по записи Михаила Козакова, подавив сомнения относительно синтаксической выверенность отдельных строчек:
За что мы боролись в искусстве – все наше, все в целости.
Мы, как говорится, в почете, в соку и в седле,
а все-таки жаль: нет надобности больше в смелости,
чтоб нам заявить о рожденье своем на земле.
Успехами мы не кичимся своими огромными,
умеем быть скромными даже в торжественный час.
А все-таки жаль, что не будем мы больше бездомными
и обший костер согревать уже будет не нас.
Премьера одна на ходу, а другая вынашивается.
Чего же нам больше? Господи, как повезло!
Машины нас ждут, Александр Сергеич напрашивается.
Пожалуй, излишне, чтоб что-нибудь произошло.
Этакий – вроде бы – плач по коммунальной квартире…
Не присутствовавший, повторяю, на том юбилее, могу лишь представить, как слушал обуржуазившийся «Современник» этот печально-иронический акафист. Впрочем, скорее всего, восприняли как капустническую шутку.
Но ведь это и жесточайшая автопародия. Авто!… И – прощание с наивностью прежней песни, с ее светом надежды? Уж не опровержение ли?
«…От бывшего гитариста», – надписал Окуджава одну из дареных книг, позднюю, 1994 года. Теперь узнаю, что именно так надписывал не только мне, а то бы, глядишь, подумал, что надпись навеяна очень конкретным воспоминанием…
Да не так ли оно и есть?
В пору его малоизвестности – попросту неизвестности – мы оказались на свадьбе приятеля по «Литгазете», и одственники невесты расписали по старинному церемониалу. куда кому надлежит сесть. Слава Богу, мы немедленно этот ритуал отменили, сев, как кому вздумалось, а то всюДу были бумажки с нашими фамилиями: Коржавин… Максимов… Рассадин… Лазарев… – и лишь у прибора, предназначенного Окуджаве, значилось: «Гитарист».
Хорошо, что эту бумажку тогда удалось от него утаить.
Случился там, кстати, и еще один казус, которому посчастливилось возродиться годы спустя.
Лев Шилов, звукоархивист, вспоминает, что он, тогда не опознанный нашей компанией, тоже оказался на этой свадьбе:
«…В разгар веселья я перехожу в какую-то комнатку. Там несколько человек, кто-то играет на гитаре и что-то напевает. Я стою в дверях – минутку, может быть, две. Мне кажется, что это что-то такое под Козина, что-то невысокого пошиба… И я выхожу из этой комнатки и иду дальше.
Там опять – шум, гам, суета, какие-то розыгрыши, тосты…
Возможно, что, когда я заглянул в ту комнату, Булат пел «Ваньку Морозова», «Течет речка да по песочку» или что-то в этом роде. И я воспринял это как рядовую блатнятину, которой тогда многие начали увлекаться, а я – нет.
Да и внешний вид этого стиляги с усиками…» – и т. д. Стиляга – понятно, Булат Окуджава.
Не в этом, однако, дело.