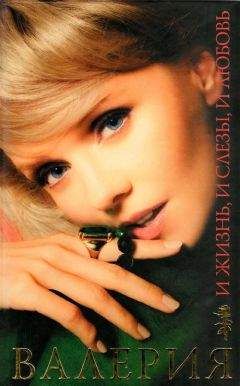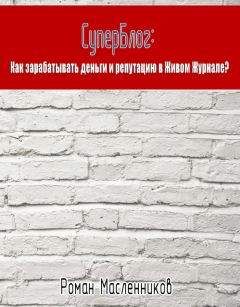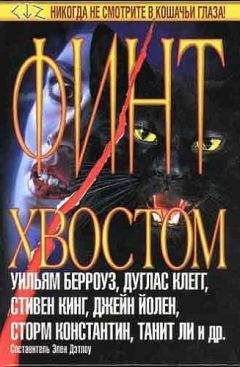Валерия Пустовая - Матрица бунта
Описание Конца интересует Мартынова постольку, поскольку скорейшее его осознание рассвобождает умы для восприятия неведомого Начала. Вот почему главный текст в «Пестрых прутьях Иакова» — не критический очерк «О конце времени русской литературы», а «Трактат о форме облаков», четыре страницы мечты, которые перетягивают на себя, перестраивают весь текст наличной культуры.
«Время Алисы» и вовсе чистая греза — о новом Эдеме, где человек не будет оторван ни от Бога, ни от чуда, ни от реальности.
Я намеренно тороплюсь, сразу выдвинув главный, во многом мистический посыл новой книги Мартынова, к которому он сам, конечно, подбирается издалека. Но если мы сосредоточимся на разборе симптомов упадка, мы не двинемся дальше преамбулы. Что, скажем, произошло в очерке Аллы Латыниной[11], которая великолепную интуицию Мартынова о наступающем эоне облаков обошла вниманием, видимо, потому, что для нее аналитика понятней визионерства.
А между тем мистические предвидения Мартынова доступны и даже прагматичны. В том смысле, что изрекаются не для красоты, а для того, чтобы немедленно быть воплощенными в жизнь. Мартынов ставит перед собой и всеми нами конкретную, ясную задачу: пребывать в реальности.
Тут с ним пытался поспорить Михаил Бойко. Верно нащупав сердце книги, он ударил в него: «Но идея „реальности” — это семиотический монстр, рожденный человеком говорящим. Именно язык образует тонкую, как волос, линию, отделяющую „реальное” от „нереального”. <…> Эволюционный рывок может быть связан только с отбрасыванием оппозиций реальное/нереальное, подлинное/иллюзорное»[12]. Однако полемики не получилось. Желая быть святее Папы, Бойко доказывает, что ничего подлинно реального быть не может — так как нет ничего такого, что мы могли бы назвать не подлинно реальным. А единой реальности нет, так как реальность — это множественные миры, которые все — реальны и не могут противопоставляться друг другу. Но ведь это и есть главная идея Мартынова: непротиворечие мира представлений и мира вещей, искусства и жизни, рефлексии и поступка, чудесного и обыденного. Продолжать эти пары оппозиций можно в любом направлении, главное — знать, что Мартынов все оппозиции объявляет несущественными.
2
Утопия «целостного, нерасколотого мира», населенного новым человечеством, и есть главный сюжет «Времени Алисы». Само же время имени сказочной героини, переступившей через привычные связи слов и правила восприятия реальности, здесь не более чем метафора этой утопии. Такой же образ, как «пятно Боттичелли», — символ не произвольного, не авторского искусства будущего, как «царственная зима» — знак «зова бытия», как китайская Книга перемен — всеобъемлющая метафора эволюции.
Аналогия становления нового мира со сказкой Кэрролла — точная. В основе нашей цивилизации — Слово (речь, представление, высказывание), а слово — это «зеркало, которое отражает и удваивает реальность». Пока Алиса стоит перед зеркалом, она видит фрагмент отраженной реальности. Пока Алиса воспринимает мир в отражении, она остается вне реальности. Пока Алиса смотрит, она не может отвлечься на то, чтобы жить. Зеркало не пускает Алису в реальность, не пропускает сигналы реальности к Алисе. Зеркало пересказывает их друг другу: Алиса и реальность, не слыша друг друга, слушают зеркало.
Чтобы вернуть «дословесную» полноту бытия, Алисе надо перестать стоять перед зеркалом — «пройти сквозь слово». Важно понять Мартынова правильно: он не занимается реконструкцией, хотя стремится наследовать архаичной культуре, через голову современной. Не один раз он подчеркивает, что новая ступень эволюции не отменит слово как таковое — но откроет иной способ его использовать, создаст новые, «правильные взаимоотношения» слова с реальностью.
Итогом этих как будто отвлеченных рассуждений может быть простая, доступная формула жизни: Мартынов за цельность — против разлома.
Оценить прозрения Мартынова поэтому сможет только тот читатель, кто уже созрел до осознания разлома в самом себе, — или тот, кто уже сумел шагнуть за зеркало и воссоединился с реальностью.
Актуальность краеугольного для мысли Мартынова сопоставления «высказывания» о реальности и «вписывания» в нее невозможно ни объяснить, ни понять на словах. Это постигается внутренним опытом, это эзотерика для одного. «Высказывание» у Мартынова означает не речь даже, а отраженное восприятие мира: когда наши представления, суждения, идеи, ожидания, оценки — наше отношение к реальности нам интереснее, важнее ее самой. Такое отношение грозит смешным высокомерием или ловушкой.
Цивилизация заморочена на субъекте, и с детства нас учат слушать себя или то, что услышали в себе другие. Навык бескорыстного созерцания, молчаливого внимания — внемления — миру утрачен в цивилизации тотального высказывания, царствующего субъекта. И не надо говорить о влиянии восточных практик — и Феофан Затворник учит внутреннему молчанию, остановке лихорадочного, неуправляемого монолога с самим собой, за шумами которого не слышен голос Бога. Недостижимость внутреннего молчания, неумение распознавать «зов бытия» — главная боль цивилизации слова, которая усиливается, едва выпадаешь в пространство, живущее не по законам речи. Попробуйте, скажем, пройти по красивейшим горам Алтая и не терять их временами за мороком внутренней речи — у меня, признаюсь, не получилось.
Высказывание вообще движение агрессивное, акт борьбы и в основе содержит страх перед жизнью: слово-зеркало — щит перед реальностью. «Вписаться» в реальность — значит довериться, открыться. Не застыть против реальности — а привести себя в «гармоническое единство» с ней. Не выпадать, наблюдая, а стать частью целого.
Это особенно трудно для литературного человека. Ранняя, исповедальная проза Сенчина — памятник литературе как сизифовой горе, на вершине которой у писателя садятся батарейки. Но не Сенчин придумал эту муку. Сколько еще людей должно быть загублено в отрочестве призраком священной жертвы жизнью — литературе? Скольких еще образованные родители и профессора-гуманитарии воспитают в убеждении, что быть поэтом — достаточное условие человечности? Сколько грамотных, начитанных людей отравят себе лучшие моменты существования мыслью, что не смогли конвертировать эти дорогие моменты в прозу?
Привычка к литературе — это привычка к высказыванию, к щиту против реальности. А культ литератора — это культ говорящего человека, и пока авторитет литературы ослабевает, авторитет говорения только растет. Не Живой Журнал убьет литературу, можете не беспокоиться: он напрямую наследует ей в новых, актуальных формах. Выйти из влиятельного поля отражений, отучиться от привычки удваивать жизнь в высказывании и наслаждаться высказыванием больше, чем вдохновившей жизнью, возможно только каким-то иным способом.
Мартынов во «Времени Алисы» предлагает нам ряд способов переменить привычки сознания. Но есть самый важный, который концентрирует прочие и связан с собственным литературным опытом Мартынова.
3
«Восемь последних книг» Владимира Мартынова, венчающие «Время Алисы», делают попытку нейтрализовать нашу привычку к высказыванию. Замысел этих книг навеян своего рода «последними» же произведениями в других искусствах: «4'33"» Кейджа (музыка), «Черный квадрат» Малевича (живопись), «Фонтан» Дюшана (скульптура). «Последними» эти произведения называются, конечно, не потому, что после них ничего не было создано, а потому, что, по убеждению Мартынова, само искусство в прежнем виде после них невозможно. «Последние» произведения свидетельствуют о конце принятых форм творчества и пытаются говорить с нами на языке искусства будущего, который для нас, еще не узнавших его, звучит как язык пустоты и молчания.
Старый язык искусства нагружен старым опытом жизни, старыми способами ее восприятия. Мессидж «последних» произведений поэтому отнюдь не только формальный. «Последние произведения» созданы для того, чтобы менять не только наше искусство, но и нас самих, наши отношения с реальностью.
Мартынов сожалеет, однако, о том, что для литературно ориентированной публики не нашлось своего пророка, который написал бы «последнюю», подлинно молчащую книгу. Ехидно отозвавшись о «самозабвенной креативности» литераторов, он заявил, что, поскольку ни один профессиональный писатель на это не отважится, он сам возьмется за переложение «черного квадрата» на язык слов.
Но вот сравнительно недавно у нас появилась возможность прочитать свою книгу молчания[13]. Во всяком случае, критики отзывались о ней так, как можно было отозваться только на «последнюю» книгу, закрывающую прежнюю историю искусства: «…никакой это не роман и вообще непонятно что» (Кирилл Анкудинов, авторская колонка «Любовь к трем апельсинам» в журнале «Бельские просторы»), «глубокий вакуум»[14], «кажется, никому еще не удалось зайти в отказе от литературности дальше Дмитрия Данилова»[15].