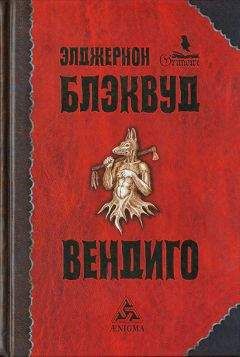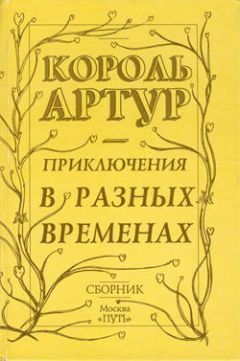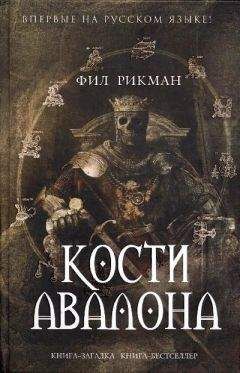Юрий Стефанов - Алхимическая тинктура Артура Мейчена
«Холм грез» можно сравнить с калейдоскопом, при каждом повороте которого глазу открывается новое сочетание форм и цветов, мгновенно переносящих нас из серых сумерек Лондона в «блистающий мир» античности или к подножию Холма грез — черного кургана на фоне багрового закатного неба. Каждому из этих миров присуща своя цветовая гамма и связанная с ней символика.
«В цветовой символике ирландской традиции, — пишет известный кельтолог С. Шкунаев, — красный цвет неизменно связывался с потусторонним миром, особенно когда он или связанные с этим миром персонажи окрашивались в зловещие, демонические тона. Эпитет derg — красный — часто входил в мифологические имена… Потусторонний мир, ассоциировавшийся с „островами блаженных“, напротив, часто маркировался зеленым цветом (или контрастом белого и черного)».[73]
В «Холме грез» такая символика служит если не смысловым каркасом романа, то композиционной «маркировкой», отмечающей переходы от одного уровня бытия к другому, системой опознавательных знаков, с помощью которых читатель может легче ориентироваться в многоплановых пространственно-временных конструкциях повествования. В этом смысле знаменательна первая фраза романа: «Небо полыхало, словно там, в вышине, открылась заслонка огромной печи». Отблески «красного пламени», «небесного костра», «пурпурного колдовства» перебегают со страницы на страницу; их игра усложняется переливами других цветовых брызг и пятен того же оттенка — «кроваво-красный поток», «кроваво-красные розы», «вино цвета темной розы», «красные язвочки» на теле Луциана, терзающего свою плоть ветками можжевельника, и даже «красная глина», послужившая ему основой краски для буквиц в рукописи, в которой воспевается его любовное безумие…
Каждая из этих искр и капель — крохотный просвет или огромный проем, открывающийся в мир инобытия, недоступный восприятию участников «маленькой ярмарки тщеславия», — они кажутся Луциану «целым роем жирных мух, гудевших и хлопотавших над куском гнилого мяса, валявшегося в траве». «Сады Аваллона», коренящиеся в недрах его воображения, сияют всеми цветами радуги: «В листьях лавра таилась нефритовая прохлада; сады, полные красных, золотых, голубых и белых цветов, переливались в солнечном мареве, словно огромный опал; река напоминала ленту из старинного золота». Волшебный Аваллон, остров бессмертных из кельтских сказаний, — антипод Лондона, царства духовной и материальной серости. Автор называет его «ледяной пустыней» и «серой пустотой», сравнивает с заброшенным языческим капищем: «В эти часы Лондон превращался в огромный серый храм, где совершался некий страшный обряд. Каменные алтари чародеев кольцо за кольцом опоясывали одним им ведомый центр, и каждое новое встреченное кольцо было посвящением, и каждое новое посвящение означало утрату. Может быть, он просто заблудился в стране серых скал?»
Еще одна символическая цветовая тональность — белизна, соотносящаяся не с многоцветьем Аваллона из грез главного героя романа, а с традиционными эпитетами этого мифического острова, который с равным основанием зовется то «зеленым», то «белым». Зеленый цвет знаменует потусторонность, запредельность (еще в Древнем Египте Красное море, тогдашний предел обитаемого мира, называлось «Великой зеленью»). Белизна соответствует просветлению человеческой души, освободившейся от коросты страстей и грехов. На вершине холма, куда любит забираться Луциан, «мерцали стены Белой Фермы», где живет старый Морган с дочерью Энни. Впервые она появляется в романе на развилке дорог у холма: «что-то белое отделилось от темной изгороди, проскользнуло мимо него и растворилось в таинственном полумраке сгустившихся сумерек, чуть подкрашенных багрянцем последних солнечных лучей». Мейчен подчеркивает цветовые контрасты: белая фигура — и черные силуэты дубов на фоне освещенного неба. Вторая сцена с участием Энни Морган происходит на старинной Белой Ферме, «где можно было прикорнуть в холодную декабрьскую ночь, наслаждаясь покоем, безопасностью и теплом». Энни угощает Луциана зеленоватым сидром, а ее отец заводит разговор о яблонях и яблоках. И все это — отнюдь не «проходные», ничего не значащие подробности, которым не место в магических мирах Мейчена. Уж слишком много здесь бросающихся в глаза символических параллелей.
Морганой или Морриганой (ср. русск. «мор», «марево», «мрак» и «морок») именовали кельтскую богиню смерти и загробного царства; так же, по сути дела, зовут и юную мисс Морган. Многозначительно и ее личное имя, если вспомнить, что в бретонских легендах богиня Анна повелевает народом мертвых — анаон, а валлийское название потустороннего мира — Аннон.[74] Моргана владеет «Белым островом», Энни Морган живет на Белой Ферме. Название «Аваллон» происходит от слова абал или афал (яблоко) — Белая Ферма славится своими яблоками. «Мой дед посадил яблоки во время войны, — говорит отец Энни, — а уж лучше его никто в то время в яблоках не разбирался». Яблоки феи Морганы сродни яблокам Гесперид — это плоды тайноведения и бессмертия. Кроме того, в фольклоре многих народов Европы яблоко, приносимое девушкой юноше, означает признание в любви. И наконец, Моргана переносит на остров Аваллон смертельно раненного короля Артура, где он покоится в волшебном дворце.
Энни-Анна-Моргана предстает на страницах «Холма грез» в разных, но узнаваемых обличьях. Это и дочь простого фермера, однако ее «удивительно бледная кожа», «блестящие, словно подкрашенные чем-то губы, черные волосы и бездонные, мерцающие глаза» приводят на память строки из поэмы Гумилева «Дракон»: «Губы смерти нежны и бело молодое лицо ее». Это и созданная воображением Луциана «обнаженная, почти бесплотная женская фигура — ее светлые руки обвивали шею раненого рыцаря, на ее груди находил покой преследуемый миром возлюбленный, ее ладони были щедро протянуты навстречу нуждающимся в милосердии…». «Она научила его волшебству, пробудившему к жизни сады Аваллона», явилась воплощением алхимической премудрости, «волшебным ключом открывшей ему закрытый вход во дворец».[75] И она же — «царица шабаша», ночная красотка под газовым фонарем в разгаре пьяной лондонской оргии, красотка, которая «чем-то удивительно напоминала портрет работы старых мастеров». Энни — символ и воплощение таинственной женской натуры или даже самой жизни, но, с другой стороны, «в лице этой женщины ему явилась смерть».
Явилась под конец романа: «великолепные бронзовые волосы струились по спине, щеки разгорелись, глаза призрачно мерцали». Она была как две капли воды похожа на гулящую девку, когда-то окликнувшую Луциана на улице. Автор сравнивает ту и другую с ожившими мраморными статуями, внутри которых трепещет огонь. «Когда она заговорила, — пишет он о первой, — на лице ее вспыхнуло и угасло дрожащее алое пламя. Девушка гордо вскинула голову и замерла, словно статуя, — бронзовые волосы слегка курчавились возле точеного уха». Вторая бесшумно прокрадывается в комнату умирающего Луциана, неся с собой лампу: она как бы проигрывает на свой лад ту сцену из «Метаморфоз» Апулея, когда Психея-душа со светильником в одной руке и кинжалом в другой склоняется над ложем Купидона: «…когда она склонилась над Луцианом, сияющее пламя вспыхнуло в ее темных глазах, а легкие завитки волос на шее казались золотыми кольцами, украшающими мраморную статую».
Финал «Холма грез», как, впрочем, и другие эпизоды романа, не под дается однозначному толкованию, да и не нуждается в нем. «Ожившая статуя» изъясняется на вульгарном жаргоне: «втемяшил себе в голову», «писаки все такие», «он вот-вот загнется»; она сообщает своему спутнику, что Луциан оставил ей свои сбережения; тот начинает тут же лапать ее. Из всего этого вроде бы можно заключить, что «шабаш», на который приглашала Луциана уличная незнакомка, обернулся пошлой любовной интрижкой или не менее банальным браком.
Однако возможно и другое прочтение. «Человек — свет в ночи: вспыхивает утром, угаснув вечером», — говорил Гераклит. Вся описанная в романе жизнь Луциана укладывается в этот краткий промежуток между двумя вспышками пламени: в начале и в конце повествования над Луцианом полыхает багровое зарево, «словно где-то в вышине открылась заслонка огромной печи». И разве не сам он наколдовал такую судьбу? Само имя Луциана — свидетельство его соприродности свету и огню, пусть даже самоснедающему и зловещему. Существительное lux переводится как луч, свет. Глагол lucere означает лучиться, светить, блестеть, сиять. Но не забудем, что от того же корня образовано имя Люцифера, падшего ангела. «Луциан стал пленником черной магии, — напоминает нам Мейчен. — <…> Он был уверен — или почти уверен, — что только что вступил в общение с дьяволом».