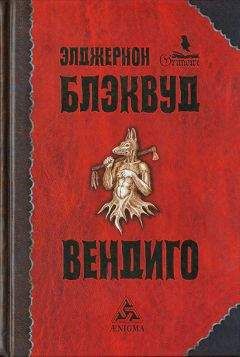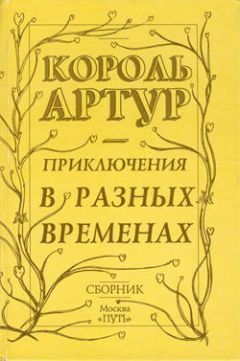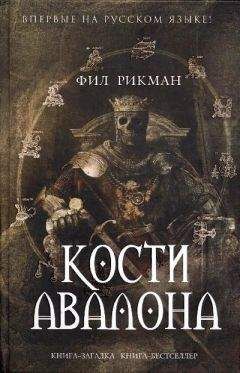Юрий Стефанов - Алхимическая тинктура Артура Мейчена
«Белые люди» — пожалуй, одна из самых «красивых», виртуозно выстроенных вещей Мейчена. Но если говорить о литературной отделке мейченовских текстов, то на память приходит роман «Холм грез». Недаром он удостоился титула «самого декадентского произведения английской литературы».[64]
В своей рецензии, появившейся сразу же по выходе романа, лорд Альфред Дуглас писал: «В красоте этой книги есть что-то греховное. Она подобна странной орхидее, цвет которой болезненно-щемящ и отталкивающ одновременно, а запах — непереносимо сладостен и едва ли не лишает сознания. Жестокость этой книги куда более дика, нежели самые жестокие из представленных в ней описаний…
Она подобна ужасной литургии во славу боли, растравляющей самое себя, боли, положенной на музыку, каждая нота которой строго выверена: мелодия становится воистину непереносимой, ибо каждая фраза — отточена до совершенства, а модуляции — непревзойденны. Последняя длинная глава с ее контрапунктными темами — непревзойденная проза, уникальная в своем роде».[65] (Не эту ли рецензию читал лет сорок спустя Томас Манн, обдумывая, как должна звучать музыка его Адриана Леверкюна?)
Можно было бы весьма пространно — и при этом плодотворно — порассуждать о том, что «Холм грез» — первая в истории мировой литературы попытка чистого мета-романа, посвященного самой тайне «алхимии слова», или же о своеобразных трансформациях «черного романа» от «Монаха» Мэтьюрина к «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» Де Куинси и далее — к Мейчену.
Последнее стоит наметить чуть подробнее, хотя бы потому, что имя Де Куинси постоянно всплывает в «Холме грез». Для XIX века «Исповедь англичанина…» воспринималась именно как готический роман. Весьма характерно, что в русском переводе, появившемся в 1834 г., авторство ее было приписано Мэтьюрину, олицетворявшему все готическое in masse.[66] Но сам жанр готического романа возник как реакция культурного сознания на наступление «века толп», чей приход возвестила Французская революция. Террор плебса и всплеск интереса к террору инфернального слишком совпадают по времени: они — лишь разные стороны одной медали.[67] Готический роман облек плотью слова ужасы и фантазмы, порожденные городской цивилизацией. А Де Куинси нашел мужество сделать следующий шаг, чтобы сказать: эти призраки и фантазмы таятся в каждом из нас. Разъяренная городская толпа и вереницы ужасающих личин, всплывающие в сознании во время наркотического опьянения, — и то, и другое лишь плата за выхолощенный рационализм и бездуховность нашего урбанистического «бытия». И если герои классических «черных» романов Рэдклиф блуждали в мрачных галереях замков или диких лесах, а рассказчик в романе Де Куинси странствовал по закоулкам опиумного бреда, испытывая клаустрофобию человека, загнанного в клетку собственного сознания, то в «Холме грез» Мейчена мы видим, как оба мотива сведены воедино: герой, осаждаемый своими фантазмами, скитается по городу, который предстает ему как «изматывающий тело и душу ад, созданный в эпоху бездарности, преисподняя, построенная не великим Данте, а дешевым подрядчиком».
Но пора сказать несколько слов о самом романе. В предисловии к «Холму грез» Мейчен признается, что решил написать своего собственного «Робинзона Крузо», роман, где героем будет не тело, а душа.[68] «Я пришел к выводу, — говорит он, — что именно это мне и следует сделать, и решил взять тему одиночества, страха, разобщенности; но от одиночества моему герою предстояло страдать не на необитаемом острове, а в дебрях Лондона..<…> Океан, окружавший Робинзона Крузо и отделявший его от других людей, в моем романе должна была заменить духовная бездна». Луциан — единственный герой «Холма грез», если не считать скопища человекообразных существ — они кажутся ему «серыми тенями, пробегающими по серой простыне», — и его женского двойника — возлюбленной, вдохновительницы и убийцы, партнерши на подмостках призрачного театра, по ходу действия примеривающей на себя самые разные маски. Можно сказать, что Луциан — это один из узников знаменитой платоновской пещеры, перенесенной воображением Мейчена (и своим собственным) в конец XIX века, пытающийся силой все того же воображения превратить свою подземную темницу в «мистический город с роскошными виллами, тенистыми садами, колдовским ритмом мозаичных полов, плотными дорогими шторами, испещренными таинственным узором». Узники пещеры не видят ничего, кроме теней, отбрасываемых огнем на ее стены; Луциан, в полном соответствии со значением своего имени, дерзает глянуть вверх — в сторону света.
Он «прочел изрядное количество книг по современному оккультизму и запомнил кое-что из написанного в этих книгах». Посвященный, утверждалось в них, может уничтожить окружающую действительность и перейти в высшие сферы. Для этого достаточно изменить свой собственный внутренний мир. Совершив этот магический акт, Луциан перестает быть всего лишь зрителем платоновского театра теней, становясь драматургом, исполнителем, созерцателем своего собственного волшебного действа. Он перевоплощается в Робинзона Крузо на «необитаемом островке» среди Лондона, в любителя опиума Де Куинси, в «смуглого фавна, привольно вытянувшегося на солнце», в средневекового скриптора, украшающего свои рукописи диковинным орнаментом, ему открылась древняя тайна Великого Делания алхимиков, «под нищенским покрывалом повседневности он научился распознавать подлинное золото, сокровище пленительных мгновений, средоточие всех красок бытия, очищенных от земной скверны и хранящихся в драгоценном сосуде».
А между тем в «реальной» действительности, которой Луциан отказывает в праве на существование, «понемногу, но неуклонно стирая с лица земли современные прямоугольные жилища, отстраивая полный блеска и славы град силуров», окружающие все чаще обзывают его «глупой скотиной», «самым настоящим ослом». И эти обидные прозвища не случайны. Ведь главная роль Луциана, исполняемая им на просцениуме повествования, — это роль Луция из романа Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел». В самом начале «Холма грез» говорится, что, «как герой волшебной сказки, он бесстрашно шел вперед, разглядывая открытую им удивительную страну». Со временем эта несуществующая страна становится для него настолько убедительной явью, что порой ему доводилось присутствовать на представлениях в античном театре — перед ним разворачивались сцены из «Дафниса и Хлои» и «Золотого осла». Апулей рассказывает, что, влекомый похотью (и тягой к рискованным магическим опытам), Луций теряет свой человеческий облик, превращается в осла. «Хорошо еще, что средство против такого превращения под рукою, — утешает его любовница. — Ведь стоит только пожевать тебе розы — и сбросишь вид осла и тотчас снова обратишься в моего Луция».[69] Но процесс метаморфоз затягивается, и Луцию-ослу приходится на собственной шкуре изведать, что такое пресловутые «инициатические испытания», прежде чем он примет из рук жреца Исиды розовый венок и, пожрав его, снова станет человеком. Осел — символ невежества, похоти и демонического начала в человеке, роза олицетворяет возрождение и посвящение в мистерии. Вот как жрец по имени Азинус, то есть осел, alter ego Луция, объясняет смысл выстраданного им опыта: «Слепая судьба, мучая тебя худшими опасностями, сама того не зная, привела к настоящему блаженству… Ибо среди тех, кто посвятил свою жизнь нашей верховной богине, нет места губительной случайности. Какую выгоду судьба имела, подвергая тебя разбойникам, диким зверям, рабству, жестоким путям по всем направлениям, ежедневному ожиданию смерти? Вот тебя приняла под свое покровительство другая судьба, но уже зрячая, свет сиянья которой просвещает даже остальных богов».[70]
Прототип Луциана из романа Апулея, миновав «худшие опасности», причащается Розе, сливается с ней в единое целое, в котором скотское естество пересилено божественным промыслом, становится человеком в полном смысле слова. Другое дело Луциан. Его освобождение из оков материального мира так же иллюзорно, как насажденные его фантазией сады Аваллона, где «кроваво-красные розы, изнемогая от жары, наполняли воздух ароматом таинственным и мощным, как сама любовь». Слишком много мистических роз благоухает в этих садах, слишком пышно цветут они на полях его эротического «молитвенника». Уподобляясь св. Хуану де ла Крусу, Луциан «вынимал из сундука можжевеловые ветви, расстилал их на полу и, сняв ночную рубашку, укладывался нагим телом на эту постель из шипов и жестких шишек». Но св. Хуан учил, что «следует бежать от видений и откровений, как от величайшей опасности»,[71] а для Луциана умерщвление плоти было подспорьем в магическом действе по перелицовке «реального мира». «Если мы хотим быть уверены, — писал св. Хуан, — что идем не по ложному пути, то должны закрывать глаза и обрекать себя на мрак, который служит для души убежищем от нее самой и всякой твари».[72] Луциана же влекло в тот тайный сад, где «каждая роза есть пламя и возврата из которого нет».