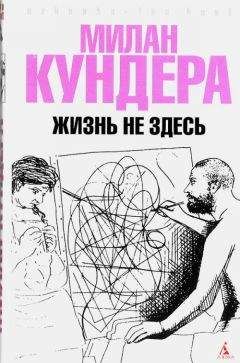Милан Кундера - Нарушенные завещания
8
В своем Манифесте сюрреализма Андре Бретон достаточно суров по отношению к искусству романа. Он упрекает его в безнадежной перегруженности обыденностью, банальностью, во всем том, что идет вразрез с поэзией. Он высмеивает описательность и скучную психологичность. За этой критикой в адрес романа немедленно следует восхваление снов. Затем он подытоживает: «Я верю, что эти два состояния — сон и реальность, на первый взгляд столь противоречащие друг другу, могут слиться в своего рода абсолютную реальность, сюрреалистическую реальность, если так можно выразиться».
Парадокс: это «слияние сна и реальности», которое провозгласили сюрреалисты, не умея по-настоящему воплотить его в большом литературном произведении, уже имело место, и именно в том жанре, который они осуждали: в романах Кафки, созданных в предыдущем десятилетии.
Очень трудно описать, определить, назвать ту разновидность воображения, которой околдовывает нас Кафка. Слияние сна и реальности, эта формула, которой Кафка наверняка не знал, как мне кажется, многое объясняет. Как и другая, столь дорогая сюрреалистам фраза, которая принадлежит Лотреамону, о красоте нечаянной встречи зонтика и швейной машинки: чем более предметы несовместимы между собой, тем волшебнее свет, возникающий при их соприкосновении. Я мог бы говорить о поэтике неожиданного или же о красоте как о состоянии непрерывного удивления. Или же использовать в качестве критерия ценности понятие насыщенность: насыщенность воображения, насыщенность непредвиденных встреч. Сцена совокупления К. и Фриды, которую я привел выше, является примером этой головокружительной насыщенности: короткий отрывок, меньше страницы, включает три совершенно различных экзистенциалистских открытия (экзистенциалистский треугольник сексуальности), которые удивляют нас своей стремительной последовательностью: грязь; опьяняющая черная красота странного; и волнующая и тревожная ностальгия.
Вся третья глава — это водоворот неожиданного: на достаточно узком пространстве чередуются: первая встреча К. и Фриды на постоялом дворе; удивительно реалистический диалог при соблазнении, завуалированном из-за присутствия третьего лица (Ольги); мотив глазка в двери (мотив банальный, но ускользающий от эмпирического правдоподобия), через который К. видит, как Кламм спит за письменным столом; толпа слуг, пляшущих с Ольгой; удивительная жестокость Фриды, которая разгоняет их плеткой, и удивительный страх, с которым они этому подчиняются; появление хозяина гостиницы, при котором К. прячется, нырнув под стойку; приход Фриды, которая обнаруживает К., лежащего на полу, и скрывает его присутствие от хозяина (при этом нежно лаская ногой грудь К.); любовный акт, прерванный зовом Кламма, проснувшегося за дверью; удивительно смелый поступок со стороны Фриды, которая кричит Кламму: «Я с землемером!»; а затем апофеоз (здесь мы полностью уходим от эмпирического правдоподобия): над ними на стойке сидели оба его помощника; все это время они наблюдали за ними.
9
Оба помощника из замка, вероятно, лучшая поэтическая находка Кафки, чудо его воображения; не только само их существование крайне удивительно, оно к тому же изобилует различными значениями: это жалкие шантажисты, зануды; но, помимо этого, они воплощают всю пугающую «современность» особого мира замка: это ищейки, репортеры, фотографы — все те, кто полностью разрушает частную жизнь; это невинные клоуны, которые бродят по сцене во время представления драмы; но они, кроме того, и похотливые зеваки, присутствие которых вносит в роман душок разнузданной сексуальности — нечистоплотной и по-кафкиански комической.
Но прежде всего: создание образов этих двух помощников подобно рычагу, который возводит историю в мир, где все на удивление реально и ирреально, возможно и невозможно. Глава двенадцатая: К., Фрида и их двое помощников расположились в помещении класса начальной школы, превратив его в спальню. Учительница и ученики входят в класс, где странное семейство вчетвером приступает к утреннему туалету; они одеваются, спрятавшись за одеяла, развешанные на гимнастических брусьях, тем временем развеселившиеся, заинтригованные, любопытные дети (тоже зеваки) глазеют на них. Это больше, чем встреча зонтика со швейной машинкой. Это донельзя неуместная встреча двух пространств: класса начальной школы и вызывающей подозрения спальни.
Эта сцена, насыщенная яркой комической поэзией (которой подобало бы открывать антологию модернизма в романе), немыслима в докафкианскую эпоху. Абсолютно немыслима. Я подчеркиваю это, чтобы показать всю радикальность эстетической революции Кафки. Вспоминаю состоявшийся уже двадцать лет назад мой разговор с Габриэлем Гарсиа Маркесом, который сказал: «Именно Кафка научил меня тому, что надо писать иначе». «Иначе» означало: выходя за границы правдоподобия. Не для того, чтобы вырваться из мира реальности (как это делали романтики), а чтобы лучше ухватить его суть.
Ибо способность ухватить суть реального мира входит в непосредственное определение романа; но как можно ухватить его суть и одновременно попасть под власть завораживающей игры воображения? Как можно скрупулезно анализировать мир и одновременно быть безответственно свободным в играх-мечтах? Как соединить эти две несовместимые крайности? Кафка знал, как раскрыть эту великую загадку. Он пробил брешь в стене правдоподобия; ту брешь, через которую за ним последовали многие другие, каждый по-своему: Феллини, Гарсиа Маркес, Фуэнтес, Рушди. И другие, и другие.
К черту святого Гарту! Его кастрирующая тень превратила в невидимку одного из величайших поэтов романа всех времен.
Часть третья. Импровизация в честь Стравинского
ЗОВ ПРОШЛОГО
В своей лекции, передававшейся по радио в 1931 году, Шёнберг говорит о своих учителях: «…in erster Linie Bach und Mozart; in zweiter Beethoven, Wagner, Brahms» («…прежде всего, Бах и Моцарт, а затем Бетховен, Вагнер, Брамс»). Далее в сжатых, афористичных фразах он определяет, чему научился у каждого из этих пяти композиторов.
Между ссылкой на Баха и ссылкой на остальных есть, однако, существенная разница: например, у Моцарта он учится «искусству фраз разной протяженности», или «искусству создания второстепенных идей», иначе говоря, чисто индивидуальному мастерству, присущему одному Моцарту. У Баха он находит принципы, свойственные музыке вообще в далекие добаховские времена: во-первых, «искусство сочинять группы нот так, чтобы они могли создавать собственный аккомпанемент»; и, во-вторых, «искусство создавать все на основе единого ядра» («die Kunst, alles aus einem zu erzeugen»).
Этими двумя фразами, которые подытоживают урок, усвоенный Шёнбергом у Баха (и его предшественников), можно сформулировать всю додекафонную революцию: в противоположность классической музыке и музыке романтической, строящихся на чередовании различных музыкальных тем, следующих одна за другой, фуга Баха, как и додекафонное сочинение, от начала и до конца развиваются из одно-го-единственного ядра, являющегося одновременно и мелодией, и аккомпанементом.
Двадцать три года спустя, когда Ролан Манюэль спросил у Стравинского: «Кто больше всего волнует вас сегодня?» — тот ответил: «Гийом де Машо, Генрих Изаак, Дюфаи, Перотин и Веберн». Впервые композитор так открыто заявляет об огромной важности музыки XII века, XIV века и XV века и сближает ее с модернистской музыкой (музыкой Веберна).
Несколько лет спустя Глен Гульд дает в Москве концерт для студентов консерватории; исполнив Веберна, Шёнберга и Кршенека, он обращается к аудитории с небольшими пояснениями и говорит: «Самый большой комплимент, который я могу сделать этой музыке, это отметить, что заложенные в ней принципы не новы, им по меньшей мере пятьсот лет»; затем он сыграл три фуги Баха. Это была хорошо продуманная провокация: социалистический реализм, официально принятая тогда в России доктрина, ниспровергал модернизм в пользу традиционной музыки; Глен Гульд хотел показать, что корни модернистской музыки (запрещенной в коммунистической России) уходят гораздо глубже, чем корни официально принятой музыки социалистического реализма (что, по сути, было лишь искусственно законсервированным романтизмом в музыке).
ДВА ТАЙМА
История европейской музыки насчитывает примерно тысячелетие (если ее истоками я буду считать первые опыты примитивной полифонии). Истории европейского романа (если я буду усматривать его начало в произведениях Рабле и Сервантеса) примерно четыре века. Когда я думаю об этих двух историях, то не могу освободиться от впечатления, что они разворачивались в схожих ритмах, если так можно выразиться, в двух таймах, в двух половинах. Но цезуры между таймами в истории музыки и в истории романа не совпадают. В истории музыки цезура распространяется на весь XVIII век (символический апогей первого тайма — это Искусство фуги Баха, начало второго — в произведениях первых классиков); цезура в истории романа приходится на чуть более позднее время: между XVIII и XIX веками, точнее, с одной стороны Лакло, Стерн, а с другой — Скотт, Бальзак. Эта несинхронность свидетельствует о том, что самые глубинные причины, которые задают ритм истории искусств, являются не социологическими, не политическими, а эстетическими: они связаны с характером, присущим тому или иному искусству; как если бы искусство романа, например, содержало в себе две различные возможности (два разных способа быть романом), которые нельзя использовать одновременно, параллельно, а лишь последовательно, одну за другой.