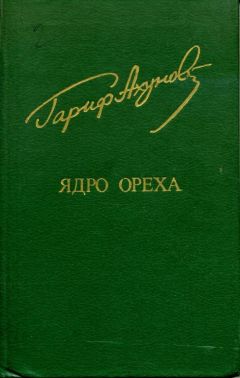Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
Из этого внешнего признака и исходит схема, которую вот уже лет пять некоторые оппоненты примеряют к Шукшину: за добродушной маской — недоверие ко «всему городском», недоверие, порожденное тайной завистью к «соблазнам». В общем не любит города!
Да или нет?
Самое глупое в данном случае — играть в прятки. Я и не собираюсь изображать Шукшина апологетом города. По той существенной причине, что это неважно. Не «наоборот», а именноневажно. Разумеется, это правда, что и по судьбе, и по симпатиям Шукшин — человек деревенского склада. Правда, что все деды у него тоскуют по детям, разлетевшимся в города. Правда, что город для него полон гибельных «соблазнов». Но почему это должно быть иначе, если такова реальность его судьбы? Это ни хорошо, ни плохо, это — так, и все. Если пол-России живет в деревне и если действительно дети сельских жителей едут в города, то требовать, чтобы старики не тосковали по ним и чтобы в литературе не было этих настроений, потому что цивилизация вообще ценное дело, — странно, по меньшей мере. Деревенскость — факт судьбы Шукшина, и это естественно, что он влюблен не в город, а в деревню, и это естественно, что на его пути не деревня, а город возникает, как незнакомое и «чужое», — и естественно, наконец, что человеку шукшинского склада есть что преодолевать в себе на пути из деревни в большой мир. Как нормально и другое: что человек, родившийся и выросший в городе, должен однажды в первый раз в жизни встретиться с деревней. Так вот тут-то и надобно различать реальную ситуацию и моральный результат.
Вот противоположный случай: у одного молодого писателя я недавно прочел поразительный рассказ — очерк характера темной, озлобившейся в городской толчее деревенской бабки, у которой доброе вообще из души выгорело. Интонация и здесь неоднозначна: в рассказе есть следы застарелого страха перед деревенской «темнотой», и я понимаю, почему: потому что этот писатель — человек совершенно городской по душевному опыту. Без этого чувства и правды не было бы, но и это чувство, — не вся правда, ибо в какой-то момент в злобной старухе всё-таки чувствует автор и ту далекую, ни в чем не виноватую деревенскую девочку, которая могла бы быть другой. Прорыв сквозь локальную оболочку, выход в нравственную сферу, где уже неважно, откудачеловек, а важно, человек ли, — вот что делает настоящим рассказ горожанина.
Вот точно такой же прорыв в нравственную сферу делает настоящим и творчество Шукшина. Надо только читать в его рассказах — : эту главную тему. Можно, например, прочитать в рассказе «Змеиный яд» только то, что деревенский парень, убегавшийся по аптекам, крикнул городу и миру: «Я вас всех ненавижу, гадов!» А можно в этом рассказе увидеть и другое, истинное его содержание: человек, ожидающий личного внимания от людей, наталкивается на скользящее безличие огромного количества этих спешащих мимо людей и кричит их безличию: «Ненавижу!» — а потом, едва один из них отзывается по-человечески, он же, только что ненавидевший, плачет от благодарности. Что это, город против деревни? Нет, извините, это личность против безличия.
Тема Шукшина — достоинство личности. И в городе, и в деревне. Если уж давать социологический адрес, — то не «городских» ненавидит Шукшин, а псевдогородских, недогородских. И псевдодеревенских тоже! Тех, которые бегают туда-сюда, ища, где полегче. Тех, которые, как говорится, норовят положить в общий котёл меньше, чем берут оттуда.
Личность против личины — вот проблема проблем для Шукшина. Теперь задумаемся: откуда и почему в этой цельной и здоровой натуре возникает такое раздумье? Откуда страх личины? Откуда постоянное ожидание ее? В героях Шукшина нет, конечно, ни обостренной рефлексии, ни суеты, в них вообще нет нетерпеливого желания все выяснить побыстрее. Они не спешат: они словно чувствуют, что столкновение между ними будет мало похоже на звонкие картинные оплеухи театральных мальчиков, — если уж шукшинские люди схлестнутся, то насмерть. Поэтому, как правило, напряжение у Шукшина не разряжается активно, а прячется внутрь; едва показавшись, его мужики часто расходятся, как линкоры бортами, не решившись пустить в ход убийственное оружие. Отсюда — столь частая у Шукшина внешняя нейтральность сюжетов, которые можно было бы счесть облегченными, если бы не это таящаяся внутри тревога. Здесь нет экспрессии, нет внешней броскости. Здесь нет ни чувства одиночества, ни чувства страха. Здесь другое бытие. Автопортрет шукшинского состояния: не страшно, не одиноко, но… «очень неспокойно». «Неспокойно» от того, что вдруг ощутила эта цельная сила, что есть над ней «что-то», что выше, прекрасней и сильнее ее самой, а что — не поймешь. «Что-то другое», стоящее за гранью привычного. — лейтмотив Шукшина. «А дальше, что, дальше?!» — ищут у него люди. «Смы-ысл?» — вглядывается эта жизнь сама в себя. Отсюда — заполошные шукшинские старики, отсюда — его «чудики», срывающиеся с панталыку, его кряжистые парни, озорующие от внезапного ощущения вакуума в душе. Шукшин одержим идеей, что за все воздается. Он одержим идеей смысла жизни и венца усилий. Тревога В. Шукшина — это тревога силы, которая обеспокоена совестью. Силы, которая ощутила в себе разные начала, сталкивающиеся и непримиримые: благородство и цинизм. В одном из рассказов охотник встречает в тайге беглого уголовника и отдает, ему ружье, поверив, что в том, заговорила совесть. И получает пулю в спину. Гибель — нечастое у Шукшина разрешение сюжета. Но даже если бы не прозвучал этот выстрел, столкновение позиций здесь страшней последующего убийства. Сидя в таежной избушке, старик Никитич и беглый уголовник спорят о том, может ли добро одолеть силу.
— Если бы я встретил где-нибудь этого вашего Христа, я бы ему сходу кишки выпустил.
— За што?
— За што?.. За то, что сказки рассказывал, врал. Добрых людей нет! А он добренький был… Паскуда!..
— Не поганься! — строго сказал Никитич… — Я не поп, и тут тебе не церква, чтобы злобой своей харкать…
— Нету на земле святых!..
Старик, видно, отвык уже от таких слов. Святые, добренький… Старик и не спорит дальше, вернее, он спорит действием. Он не боится вора и не умасливает его. Он его жалеет. Он делает добро злому, потому что уверен. что и в его противнике должна быть совесть. И он получает пулю. Да, не в стиле Шукшина доводить дело до такого конца. Потому что такой конец чересчур просто разряжает мучающую Шукшина дилемму. Убил в спину! Что же теперь, остервениться? Бить, наконец, всех «по морде»? Или «не надо было верить»? Вариант вполне возможный и даже рациональный: стрелять первым. Шукшин делает другое: он ставит памятник добру. Все равнонадо было верить! Потому что добро не может обменивать себя на, зло… даже если зло и навязывает такой обмен. Обмен злобы на злобу, «скандал», как сказал один критик, упрекнувший Шукшина в бесконфликтности, — вполне исчерпал бы ту породу околожителей, которую так ненавидит Шукшин Увидел что-то по себе — хватай, рви зубами! Увидел что-то не по себе, — бей, скандаль, рви глотку! Для Шукшина это не жизнь, а кощунство.
Он знает в народе не столько деревенский старый быт, каковой теперь часто идет в иных народопоклоннических статьях чуть ли не за главный признак истины. Повторяю: есть в народе быт есть бытие. Шукшин ищет бытие. Он знает в народе то начало добра и великодушия, в котором совмещаются все начала и концы.
Хотя на пути от начала к концу, или в поисках начал — можно получить и пулю в спину.
1965
БЕСЫ И ЛЮДИ
Где-то в самой основе было у Аксенова-писателя качество, которое с неизбежностью должно было привести его в «Современник». Зоркость на приметы. Цепкий, живой взгляд, мгновенно подмечающий и усваивающий новации быта, внешние детали современности. В свое время именно Аксенов прочно ввел в беллетристический обиход бытовую стихию студенчества пятидесятых годов: вкусы и словечки, манеру одеваться и стиль общения. Потом в «Звездном билете» он рассказал о школьниках и нарисовал «Барселону» — большой московский двор с орущей радиолой. Потом он разглядел своих знакомцев, бывших студентов, в северной стороне, — их новый быт, их стиль, их жизненный почерк.
В свою первую пьесу — «Всегда в продаже» — Аксенов, кажется, собрал все. Он дал нам «Барселону» в разрезе — большой многоквартирный московский дом. Он ввел в эту многоголосую «Барселону» двух бывших дружков-студентов: скептика и мечтателя, одного — москвича из сфер, так сказать, интеллектуальных, другого — из сфер северно-геологических. Это соединение оказалось сущим кладом для «Современника»: театр, обладающий зоркостью, хваткой бытового пёреврплощения насытил аксеновские диалоги горячей кровью. Художники «Современника» А. Елисеев, П. Кириллов и М. Скобелев вывернули московский многоэтажный Дом: слева вверху молодая мать стирает пеленки, справа внизу румяный пенсионер упражняется с эспандером, справа вверху сидит в одиночестве пожилой профессор, левее внизу дрожит над сервизом жена бухгалтера, а юная дочь бухгалтера крутит хула-хуп. Действие то идет параллельно, то последовательно — перебегаят с этажа на этаж, из комнаты в комнату: Олег Ефремов словно освещает режиссерским фонариком то там, то здесь гигантский квадрат современного дома: «отдельные квартиры» — трогательная независимость жителей в ячейках неразделимого улья. Стена сорвана — вы видите быт, интим. Вы чувствуете: вот-вот появится бессмертный лесажевский хромой бес… И он является, высокий, гибкий, длинноногий, — сама элегантность, сама светскость: Евгений Кисточкин в исполнении Михаила Козакова.