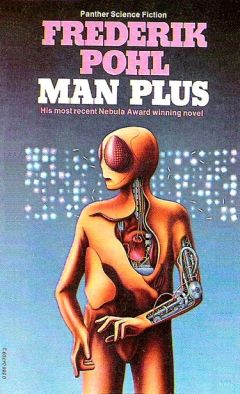Лев Аннинский - Русские плюс...
У Толстого в этом случае все-таки рефлектировали. Во всяком случае Оленин при виде Марьянки и Толстой при виде Оленина. У Маканина ни намека. Все просто. Хорошо, когда баба «большая», ее удобно «обхватить». Совокупляются стремительно и по-звериному целесообразно. И этот вариант кажется естественным не только солдату и «бабе» — он кажется естественным и самому Маканину. И, наконец, сознаюсь, что этот вариант начинает казаться нормальным и мне, читателю. Потому что таковы условия игры: жизнь сползла в какое-то невероятное измерение, где все прежние правила, законы и идеи обесцениваются, и возникает совершенно новая система жизни и выживания. Без вражды и злобы.
Пленных берут не затем, чтобы ослабить противника. Пленных берут, чтобы потом выменять. Даже не на других пленных, а — на право проехать по такой-то дороге. То есть это все-таки в известном смысле «игра». Хотя и смертельная.
Беря в плен горца, наш солдат вовсе не ненавидит его. И когда тащит на себе красавца-юношу, — чувствует с ним уже и душевную связь. И когда стережет его ночью, — им любуется! Я оставляю в стороне некоторый пережим, некоторый «голубоватый» налет в этой сцене: возможно, Маканин полагает, что без оттенка скандальности — «не подействует». Но на меня — действует, и не из-за намеков на смутное влечение нашего крутого мужика к нежному мальчику, которого он скрутил, а потому, что союз насильника и жертвы психологическое откровение нашего времени.
Я никогда не забуду, как женщина с теплохода «Аврасия», проведшая сутки под дулом автомата, горевала о террористе: «он мне рассказал, что его прогнали с Кавказа, он сидел рядом и плакал…» При этом его палец был на крючке, а динамит — по периметру палубы, но террорист действительно плакал, и она, заложница, плакала вместе с ним, и, рассказывая это, плачет о нем.
Невероятный симбиоз, феномен двадцатого века. Или уж — двадцать первого?
У Маканина говорят:
«— Если по-настоящему, какие мы враги — мы свои люди. Ведь были же друзья! Разве нет?» — любой наш солдат и любой чеченец ответят на это согласием, а потом упрутся в ту же «югославскую» апорию: мы, люди одного мира, убиваем друг друга, И МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ.
Наш солдат убивает пленного юношу-горца вовсе не из какого-то внятного чувства, будь то даже ненависть, вспыхнувшая на месте любви. Нет, просто инстинкт самосохранения. Лежат у тропы, а по тропе, как на грех группа боевиков; мальчишка может заорать, и его душат, пока не поздно.
«Писатель двадцатого века», Маканин перемешивает ангельское с бесовским, а сам как бы устраняется. Штрих патологоанатома: «несколько конвульсий…» и только. Поздний Маканин (с момента отмены цензуры) вообще — живописец морга: внутренности наружу. В «Кавказском пленном» один труп с разбросанными кишками таки описан. У меня нет охоты упрекать писателя в превышении меры, потому что, как я уже сказал, он рисует реальность, которая находится за гранью понимания (то есть нашего традиционного знания о том, что истина — одна, добро лучше зла, красота спасет мир и т. д.). Надо ли говорить, что прежний Маканин мне ближе и понятней: Маканин — исследователь человеческой типологии, Маканин-психолог, Маканин-социолог…
Да вот же они, знакомые типы. Картинка из прошлого: советский майор является в райком партии «выбить» харч для своего подразделения. Можно договориться по-человечески: мы вам тягач или там запчасти — вы нам баранины…
Они и теперь сидят, дружелюбно беседуя: ты мне — харч и проезд «без этих дурацких засад», а я тебе — десять «калашниковых» и пять ящиков патронов. Те же люди, только «молодцеватый майор» теперь — опытный, усталый, тертый жизнью подполковник, а давешний райкомовец (или райисполкомовец?) теперь — полевой командир боевиков (или, как минимум, их тайный снабженец).
Типология у Маканина, конечно, потрясающая (сидят два кунака, пьют чай — как сидели, обнявшись, ночью русский солдат и юноша-кавказец «пленный»), но… тут ведь, помимо типологии, еще и социополитика в зародыше, и — невиданная.
Что, собственно, происходит? Подполковник Гуров должен кормить своих солдат. Он у Алибека выменивает харчи — на оружие.
Так. Харчи солдаты съедят. Оружие… оружие пойдет боевикам, которые будут стрелять в солдат. Нет, не обязательно затем, чтобы убить. Убивать никто никого как бы и не хочет. Тут какая-то запредельная игра: мы берем боевиков в полукольцо, на выходе их ловим, а потом вымениваем… на что? На право проезда колонны в такое-то место. Колонна везет туда… оружие. Это оружие потом Гуров отдаст Алибеку за харч…
И в этом безумном, с точки зрения логики, круговращении живого и мертвого таится какой-то незнакомый нам, новый образ существования, в свете которого все «идеи» (имперские, сепаратистские, федералистские — любые) кажутся тоже игрой, только пустой.
Идет выработка совершенно новых понятий.
«— Долины здесь наши.
— Долины ваши — горы наши».
Почти по тому самому проекту, который, легализуя реальный фронт, предполагает независимость населенной чеченцами горной части и российское подчинение тех равнинных районов, где большею частью живут русские, — да вот осуществления такого проекта не хотят ни те, ни эти. Оформить-то можно что угодно, — как сделать, чтобы на микроуровне жизни выкристаллизовался такой тип сосуществования?
Он пока что в «коллоиде»:
«— Алибек! Ты же, если со стороны глянуть, пленный. Все ж таки не забывай, где ты находишься. Ты у меня сидишь…
— Шутишь, Петрович. Какой я пленный… Это ты здесь пленный… И каждый твой солдат — пленный!»
Смеются: плен для всех без исключения. А ты думаешь: они все взбесились? Чего им делить? Зачем Алибеку «десять „калашниковых“ и пять ящиков патронов»?
И вдруг странная, «биологическая» мысль въезжает в голову: да эти «калашниковы» как раз и определяют всю абракадабру отношений. Огромная держава готовилась отбить нападение извне, ковала и совершенствовала оружие, полвека копила его… И в какой-то момент все это пошло через край, и огромное количество людей ПОЛУЧИЛО оружие: простое, компактное, дешевое.
«Моджахед со „стингером“» решил геополитическую ситуацию в Афганистане.
«Чеченец с гранатометом» решает ситуацию на Кавказе, да как бы и вообще в России.
«Человек с ружьем» вновь выходит на авансцену истории, только «ружье» у него стократно убойнее давешнего, а чувство безнаказанности — вовсе беспрецедентное. Тут не то что коммунию провозгласить в уезде — тут правительство великой державы можно поставить на колени, взяв в залог роддом, ясли или детсад.
Соблазн неслыханный.
И соблазняются — все. Молодые горцы — «хотят поскорее убить первого (русского. — Л. А.), чтобы войти во вкус». Русские, вместо того чтобы, отслужив, собрать чемоданы и отбыть в родимую «степь за Доном», — смотрят вокруг («А горы!..» — как Толстой когда-то ахнул) да тут и остаются. И «не без удовольствия стреляют…»
Они понимают, вообще-то говоря, что творят? Вряд ли. О последствиях никто не думает. Только о том, что есть возможность «пострелять». Это не война в той форме, которая врезалась нам в сознание с 1914 или 1941 года. Это образ жизни эпохи Стингера-Калашникова. Инстинкт здорового существа, «не знающего» ничего ни про историю, ни про то, что красота спасет мир.
Да что же это все — обеспамятовали?
А старики!?
О, старики у Маканина мудрые.
Старики говорят: поход на Европу пора делать — пора опять идти туда. Старики говорят: это не так далеко. Пойдем с русскими: куда русские, туда и мы. И чего мы друг в дружку стреляем? Время от времени в Европу ходить надо. Старики говорят: сразу у нас мир станет. И жизнь как жизнь станет.
Европа — это, конечно, вариант. Но можно и в Азию (если все, что южнее Хребта, — Азия). Хаживали же и к персам, и к туркам. То есть, не хаживали — бегали. Никогда горы не могли прокормить всех живущих здесь, и был вековой способ выживания — набег. А уж куда бегать — вопрос практической целесообразности. На север тоже бегали — пока север не пришел сам, и не «пленил» вольных бегунов, и не «пленился» сам — Кавказом. А потом повернули общий фронт — на запад. То есть, как говорят старики, в Европу.
Да ведь и Европа не ждет, пока на нее «набегут». То Наполеон оттуда вдарит, то Вильгельм, то Адольф. И тогда мы с горцами — плечо к плечу против такой напасти… И лучшие, вернейшие части русской армии — горские. И психологически — «жизнь как жизнь становится» — правы старики. Такой взаимный душевный кавказский плен.
Ну, так выбирайте. Куда идти. Или, точнее, уйти? Уйти с Кавказа, признав свое бессилие. И ждать «набегов»? И ждать — чем обернется там накопленная бешеная энергия, да при дешевом оружии и при абсолютной вседозволенности? Кто там в кого примется стрелять, когда стрелять охота всем?
Или — никуда не идти. Упереться и ждать. Чего? Когда «придут» — из Европы или из Азии? Или пока обе стороны, испытывающие от стрельбы «удовольствие» и торопящиеся «войти во вкус», искромсают друг друга настолько, что просто физически не смогут продолжать драку, — и тогда разом найдутся и посредники, и прорежутся ответственные политики, и согласуются исторические права, и пресловутая «дружба народов» воцарится над кладбищами и пепелищами.
![Роман Терехов - Безымянный мир [начало]*](/uploads/posts/books/no-image.jpg)