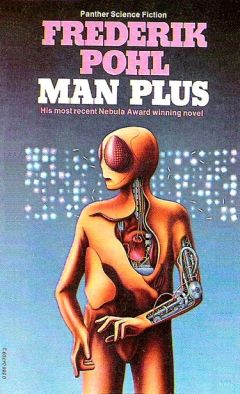Лев Аннинский - Русские плюс...
Лучше обойтись без топора? Конечно. И без кинжала? Кто спорит! Но как это «обеспечить»? Может, все-таки общий порядок лучше, чем порядок явочный, кончающийся снайперскими засадами и «точечными» бомбежками? Может быть, все-таки это «порядок», и «нормальный порядок», когда выходец из горского селения становится спикером Российского парламента, а если перестает им быть, то не потому, что он горец, а по другим причинам. И этот же горец волен потом выбрать: возвращаться ли ему в родной юрт или продолжить профессорскую работу в московском институте. Это все-таки порядок: когда горец может стать генералом советской (то есть российской) армии. Может стать генералом, может — президентом или вице-президентом, — он может все, если останется в пределах общего порядка.
Может, конечно, и вооружиться против этого порядка. Но тогда и порядок вооружится: вызов на вызов. И дальше — слезы горькие. А вы, что же, не знали, что мы — страна варварская? Господа генералы и господа президенты, уважаемые силовые начальники, вы не знали, что на всякую демонстрацию силы находится другая сила, и конца этому не будет, пока не сойдутся разум с разумом… А если делать по разуму, то тогда это уже не «наша территория — ваша территория», тогда это уже «общая территория», на которой учитывается все. В том числе и менталитет народов, где каждый мужчина носит кинжал. Но не установку «Град». И ездит верхом. Но не в танке. Танк — это уже средство передвижения «на все четыре стороны».
Четыре — не так уж много, чтобы не рассчитать последствий. От одной, северной, отгораживаемся — остаются три. И ведь нигде не «ждут», нигде не спешат «навести порядок», чтобы гости соблаговолили пожаловать, а везде свой, общий порядок, в который надо вписываться.
Впрочем, все это действительно «общие» материи, от рассудка, а по-человечески-то: через себя не переступишь… Что в статье Бориса Агапова действительно сильно — так это представление о России как о нищей, голодной, погрязшей в преступности стране.
Я не хочу сейчас спорить, таковы или не таковы мы в реальности. Даже если не таковы, — представление о русских, здесь выраженное, — тоже реальность. Надо признать: мы даем к тому некоторые основания. Даже если характеристики и усугублены. Есть только один путь россиянам решать неразрешимые проблемы: меняться к лучшему. Не для того, чтобы понравиться «якутам, тувинцам, татарам, башкирам и евреям». А чтобы понравиться самим себе. Это неизмеримо труднее.
Может быть, еще и потому, что дело-то вовсе не только в тех гримасах русского «менталитета», о которых кричим и мы, и весь мир (пьем, врем, не даем друг другу работать и т. д.). Дело еще и в фатальной исторической «усталости», накопившейся в центральных структурах за века напряжения. Аналогии невеселые. Пока Рим был в силе, окружающие его «народы» (то есть люди) охотно почитали себя его гражданами; когда движение к центру и через центр на мировой «форум» застопорилось, — граждане, особенно в провинциях империи, обнаружили, что они — «народы». Ответить на это нечего: имперская власть никогда по определению не бывает «национальной», она всегда мировая, вселенская, универсальная. Теряет она это качество — и распадаются граждане на «народы», на языки, племена, нации.
Вот и мы сейчас ощущаем что-то вроде закупорки центральных сосудов. «Мы» — не в том смысле, что «русские», а в том, что это может сказать о себе любой российский (еще недавно советский) гражданин, привыкший через «центр» чувствовать себя в контексте мировой культуры. Горько, что потеряно это ощущение.
Однако не здесь, так в другом месте «центр» все равно определится. Такие центры неизбежно возникают в ходе решения объединяющих задач, усилиями многих народов, на «территории» какой-нибудь общей «единой-неделимой» долины, в которую с гор сначала «бегают», а потом на полном законном основании «спускаются» граждане, считающие, что это — «наше государство».
«Наше государство» — слова Бориса Агапова. Оговорился он, что ли? Господин вице-президент, товарищ генерал-лейтенант в отставке! Если оно «наше», то порядок надо наводить вместе. Разумеется, России «территория» Чечни нужна. В такой же степени, в какой Чечне нужна «территория» России, с ее городами, университетами, институтами, академиями, консерваториями и прочими «отстойниками» культуры. И «народы» друг другу нужны. Хотя бы затем, чтобы воин, охранявший «общую территорию» (Борис Агапов был генералом погранвойск), имел бы право и возможность возглавить на этой «общей территории» ту республику, которая его на эту роль изберет.
Только бы не садились в танк и не объявляли суверенитет явочным порядком. Это самый долгий путь, и, боюсь, не в разумно избранную сторону, а именно — на все четыре, то есть куда придется.
КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН
Солдаты, скорее всего, не знали про то, что красота спасет мир, но что такое красота… они, в общем, знали.
Владимир Маканин. Кавказский пленныйСолдаты еще не знают, что ведут Вторую Кавказскую войну, но что такое война, ставшая образом жизни, они уже знают.
Литература Второй Кавказской войны хочет опереться на литературу Первой Кавказской войны. Потому что сейчас не на что опереться, а тогда величайшие русские перья, поэтические и прозаические, отточились о Кавказский хребет.
Вскользь отсалютовав Достоевскому, главным ориентиром Маканин выбирает Толстого. В названии хрестоматийного толстовского рассказа он меняет две буквы; «пленник» становится «пленным» и таким образом из контекста девятнадцатого века попадает в наш.
Это не братание с классиком, не подстраивание к нему и, тем более, не модная сегодня постмодернистская перекройка, неазываемая «римейк». Это отсыл.
Мы смотрим на Толстого, потому что он выдержал когда-то кавказский экзамен, а мы боимся не выдержать.
Тут опора не на тот или иной эпизод давней кампании, а на общую память о ней. У Толстого помнится не только история «кавказского пленника» — в маканинском рассказе можно найти отзвуки и «Набега», и «Рубки леса», и «Казаков»; то есть: он адресуется к общей толстовской идее «живой жизни», которая мудрее любых искусственных умствований о ней. Толстой не хотел вникать в доводы политиков и генералов, загнавших русского солдата в горы, он вникал в другое: в то, что девочка-горянка тайком носит пленнику молоко. В сочувствии горянки к пленному «урусу» больше правды, чем в доводах всех схватившихся здесь властей, и именно в этом простом контакте простых душ — выход для Толстого.
Мы выхода не знаем. Но знаем, где его искал Толстой. Мы не можем распутать геополитические узлы, но чувствуем, что тоже соскальзываем в простоту. Только эта простота не спасает. У нас в ушах вопли передравшихся между собой югославов, которые разделились на сербов, хорватов, боснийцев, краинцев и еще десятки анклавов, пустили друг другу кровь, а теперь, стоя на пепелище, спрашивают: «Что с нами произошло? Мы не понимаем, что с нами случилось!»
Вот он, главный штрих в портрете современного бунтующего сознания, не знающего, какая сила бросает его против ближнего и отрезает путь к примирению. Это — главная правда и о Второй Кавказской войне. Другой пока нет.
Весь «верхний уровень» объяснений: причины, цели, исторические права, государственные интересы — все это срезано у Маканина, аннулировано в сознании его героев. Они просто живут, то есть стреляют, прячутся от пуль, дразнят друг друга через линию противостояния и даже веселятся, потому что во всем этом есть элемент игры: попав в ситуацию, когда смерть действительно рядом, — люди вовсе не хотят убивать друг друга. Они тоже сказали бы: «мы не знаем, что с нами происходит», — если бы рискнули задуматься. Но здоровым инстинктом они запрещают себе залетать умом в сферы, где их ждет абсурд. Поэтому они просто живут. Живут в обстановке, где почему-то летают пули, взрываются мины и таятся засады.
Но почему, почему?
Толстой в этом случае мог думать о человеческой глупости, о подлости правящих сил и т. д. Маканин, его современный оппонент, снимает этот умственный слой начисто. Потому что не надеется ничего извлечь оттуда, кроме тех же глупостей и ловушек. Жизнь опускается у Маканина на простой биологический уровень, без всякого намека на толстовские самооправдания. Просто рефлексы, и все. Если два солдата являются к подполковнику, то подполковник озабочен не делом, с которым те явились (о деле сказано: «Никакой подмоги кому бы то ни было, какая, к чертям, подмога!»), — он озабочен тем, чтобы солдаты на него поишачили: разбросали песок по дорожкам или помогли в огороде. И это нормально, это в порядке вещей. Если солдат видит «бабу», то, не теряя ни секунды, тащит ее в укромное место, и баба не очень-то упирается. Ей, бабе, тоже «скучно», и она по случаю готова отдаться попавшемуся на глаза мужику, будь то «молодцеватый майор» или шустрый солдатик.
![Роман Терехов - Безымянный мир [начало]*](/uploads/posts/books/no-image.jpg)