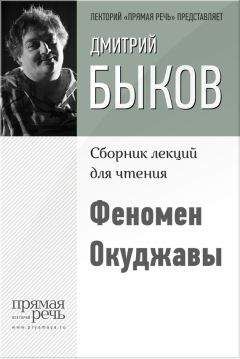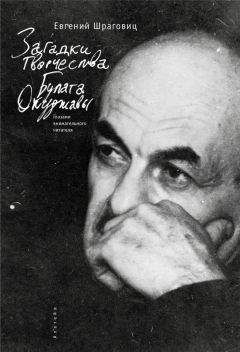Станислав Рассадин - Книга прощания
Например, само ополченство – эта, хотя бы отчасти, легенда, приукрашенная пропагандой, ибо «солдаты необученные» не всегда шли в ополчение добровольно, но бывали мобилизованы. Во всяком случае, троица джазистов, подвизавшаяся в «Перекопе», насколько я знаю, была мало похожа на олицетворение энтузиазма, но все трое попали на фронт, и все трое погибли. Да и могли ли не погибнуть, когда, как известно, даже трехлинейных винтовок далеко не хватало на всех?
В общем, жестокость мобилизации… Безоружность глубоко штатских людей… Бессмысленность гибели – не только моего не шибко грамотного отца (отчего, понятно, мне его не менее жаль), но и цвета профессуры, искусства…
Это ж как раз о них сказал тот же Булат Окуджава, только прозаическим языком интервью: «Добровольцами шли, как ни странно, интеллигенты… Атак война была абсолютно жестокой повинностью». Но в своем стихотворении, о котором толкую, этого как бы не учел.
Не учел – в отличие от невоевавшего Галича; на сей раз говорю не о привидевшейся мне неосуществленной песне, а о таких, скажем, строчках. О такой войне:
А вот еще: В мазурочке,
То шагом, то ползком,
Отправились два урочки
В поход за «языком»!
В мазурочке, в мазурочке,
Нафабрены усы,
Затикали в подсумочке
Трофейные часы!
Мы пьем, гуляем в Познани
Три ночи и три дня…
Ушел он неопознанный,
Засек патруль меня!
Да вот же они, нечистые, грешные будни войны, о которых фронтовик Окуджава прямо рассказывал Юрию Росту: «…Мы приехали к месту назначения грязные, рваные, похожие на обезьян, спившиеся… Никакого романтизма – пожрать, поспать и ничего не делать…» И – уж совсем неотличимо от Галичевых урок: «…Товарищи мои были в прошлом профессиональные жулики… К утру в казарму пришли какие-то люди и ребят арестовали. Выяснилось, что ночью они все столовое серебро унесли».
«…Засек патруль меня!»
И вот взамен всего этого: «Кларнетов принцы… магистры саксофонов… колдуны…» Еще чуть-чуть – и возникнет «надежды маленький оркестрик» с его кларнетистом, красивым, как черт, с флейтистом, который, «как юный князь, изящен»…
Контраст двух поэтов и двух поэтик понятен. Галич, как я говорил в главе-воспоминании о нем, прошел школу русской прозы, прежде всего – Зощенко. За Окуджавой – гармонический Пушкин, светлый даже в трагизме (но не желчный Лермонтов, не надрывный Некрасов, не «раздробительный» Баратынский). Хотя конкретных, частных влияний можно сыскать немало, вплоть до Игоря Северянина и Вертинского.
Такого бы, отыскивающего поэзию там, где она как будто и не ночевала, даже вопреки собственному житейскому опыту, – такого-то, казалось бы, и ласкать литературно-партийной номенклатуре. Особенно в пору ее ожесточенной борьбы с «окопной правдой», «дегероизацией», «ремаркизмом»…
Не обласкали.
Как молодой Жора Владимов предположил в песенке про «девочку по имени Отрада» рассказ о насилии, так песню о «часовых любви», которые «на Смоленской стоят… у Никитских не спят», молва истолкует как стихи о проститутках. Так озорное: «А мы швейцару: «Отворите двери!…» обвинят в прославлении золотой молодежи,«плесени», и уж на этот раз обвинителем выступит сам хрущевский подручный J1. Ф. Ильичев. И Окуджаве пришлось-таки объяснять: речь – о студенческой голи, хотя вроде и объяснять-то зачем? «А Люба смотрит: что за красота! А я гляжу: на ней такая брошка! Хоть напрокат она взята…» Что ж? Дочки советской знати берут бижутерию напрокат? И, как невиданной красоте, дивятся дешевой роскоши ресторанного интерьера?
Тем не менее…
Это сегодня Лужков, поздравляя с юбилеем «Литературную газету», может сказать, что в ней работали и публиковались «корифеи отечественной литературы – Михаил Шолохов и Булат Окуджава». Во как! Это сегодня новым поколениям чудится, будто судьба песен Окуджавы была беспечальной. Одни полагают так, оттого что – любят, не представляя себе возможность чьей бы то ни было неприязни. Другие считают Окуджаву пронырой, взявшим свое (даже – свое ли, не чужое ли, часом?) за счет потакания неразборчивым вкусам. А то и умения ладить с властями.
Ладно. Воспримем и это как составную часть феномена «Булат Окуджава».
Нельзя было не понять негодования партийных верхов насчет аллюзий, которые просвечивали сквозь игровую структуру иных стихотворений – как для сторожких цензоров, так и для слушателей-читателей, не избалованных прямоговорящей сатирой.
Со двора подъезд известный
под названьем «черный ход».
В том подъезде, как в поместье, проживает Черный кот, -
пел Окуджава, и мы улавливали… Что? Намек на неискоренимую память об усатом тиране («Он в усы усмешку прячет, темнота ему, как щит»)? Возможно. Хотя еще возможнее то, что сочинитель песни не зацикливался именно на Сталине, по крайней мере на нем одном, и аллюзионности тут немногим больше, чем в сказке Чуковского «Таракани- ще». Там ведь тоже: «Покорилися звери усатому. Чтоб ему провалиться, проклятому!», но сам Корней Иванович был изумлен, когда в период «оттепели» его принялись уверять, будто «Тараканище» есть сатира на того, кого при жизни шепотом величали: Ус, Усач, Батька усатый. «Напрасно я говорил, что писал «Тараканище» в 1921 году…»
Общий, всех цепенящий страх, чего добивается и что оставляет после себя тоталитарная власть, – вот что зафиксировал Окуджава. Страх тем страшней, тем живучее, что он воспроизводит себя самого, – ведь песенный кот, в отличие от генерального Усача, не может принести запуганным обывателям ощутимого вреда:
Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит
и спасибо говорит…
С «Черным котом» – дело ясное. Однако с необъяснимой враждебностью встречались и те песни, в которых не было ничего такого. «Полночный троллейбус», «Московский муравей»…
«Белогвардейскими» обозвал мелодии Окуджавы взревновавший Соловьев-Седой (обвинение небезопасное, прозвучавшее задолго до разрешенной моды на корнетов Оболенских или поручиков Голицыных). А другой композитор… Цитирую воспоминания Александра Город- ницкого:
«После концерта, уже в гардеробе, к Окуджаве подскочил именитый в те поры и обласканный властями Иван Дзержинский, автор популярной в сталинские годы оперы «Тихий Дон». Багровый от негодования, брызжа слюной, он размахивал руками перед самым носом Булата Окуджавы и кричал: «Я не позволю подобного безобразия… Я – Дзержинский! Я – Дзержинский!» Обстановку неожиданно разрядил стоявший за разбушевавшимся композитором известный актер БДТ Евгений Лебедев, который хлопнул его по плечу и заявил: «А я – Фрунзе!»
Но не реакция официоза или хотя бы полуофициоза оказалась для Окуджавы потрясением.
Помню, как мы ждали его в доме покойного прозаика Ильи Зверева в литературно-академической компании (в частности, сценаристов-соавторов Валерия Фрида и Юлия Дунского и физика, нынешнего нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга, тогда для нас – Вити). Ученая публика сособой жадностью предвкушала появление того, чья слава имела странный характер: о нем слыхала уже «вся Москва», его не слыхал почти никто. Но он, в те времена легко откликавшийся на просьбы петь, не пришел.
Правда, мы знали: у него в этот день первое концертное выступление в Доме кино (не «сольник», понятно, а так, «номер»), однако и в голову не могло взбрести, что «творческой интеллигенции» чудо покажется пошлостью. Показалось!
Окуджава, волнуясь, вышел спеть две-три песни, но не допел и первой: «Вы слышите, грохочут сапоги…» Актер Кмит, памятный как Петька из «Чапаева», перебил его, выкрикнув: «Осторожно, пошлость!» (как нарочно, в программе вечера был фильм под этим названием). Звезда на народные роли Кириенко захлопала, не позволяя петь, а ведущий, писатель Ардаматский, человек, как принято говорить, со специфической репутацией, добавил: да, мол, товарищи, вот вам и иллюстрация к просмотренной ленте…
Еще и еще раз: Ильичев, Соловьев-Седой, Дзержинский – тут все понятно. Опасно, но не обидно. Но эти-то, свои-то – за что?…
А за то самое. За то же, за что – вдруг – Окуджаву принялись травить в поздние, перестроечные и постперестроечные годы. И уж этим он был застигнут врасплох.
Вот записанный мною наш с ним разговор. Я спросил – полушутя и предвидя ответ, – не жалеет ли он, что мы в 1959 году по своей доброй воле рекомендовали не чужому для Булата калужскому издательству первую книжку Станислава Куняева? (Каковой, разумеется, в качестве благодарности потом понапишет об Окуджаве гадостей.) Он ответил: нет, не жалею, но едва я раскис, настроясь на всепрощение, и сказал, что, коли так, надобно пожалеть и нынешних молодых дураков, на него насыпающихся, как услышал неожиданно жесткое:
– Их мне не жалко. Они мне неприятны. Может быть, это прозвучит грубо, но я их презираю. Когда мне было тридцать лет, тоже была категория старших: Паустовский, Светлов. Я видел у них массу слабостей, но я дружил с ними, любил их. Я терпеть не мог Катаева, но никогда не написал бы про него в газете: «сукин сын»… Мне хочется спросить тех, которые и меня поносят, и всех шестидесятников без разбору: вы-то что сделали? Покажите, что вы умеете? И пока вижу только одну причину злобы: бездарность. Комплекс неполноценности…