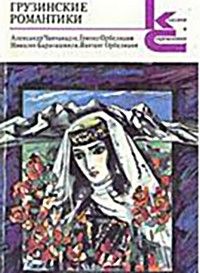Николай Анастасьев - Владелец Йокнапатофы
Свое право на "духовное родство" с Достоевским Фолкнер пытается доказать не впервые. Но раньше, в «Святилище», были только беглые, робкие прикосновения, а "Реквием по монахине", оставался еще впереди. Так что "Дикие пальмы" — это первая серьезная попытка прямого диалога с русским классиком. Фолкнер обращается к Достоевскому как философ к философу, как идеолог, каким раньше никогда не был, а теперь попытался стать, — к идеологу.
У всех на памяти притча о Великом Инквизиторе. Разумеется, Иван Карамазов проводит свою мысль и глубже, и последовательнее, но сама-то она, да и словесная ее форма совпадают едва ли не буквально.
Или, допустим, разговор братьев в скотопригоньевском трактире. Опять-таки, куда провинциальному лекарю до интеллектуала, размышляющего о мироздании, гармоний, боге, — на фоне страстных, мощных монологов Ивана речь Гарри кажется косноязычным бормотанием, выводов ему своих с такой афористической яркостью никогда не сформулировать. Но по существу герой Фолкнера следует карамазовским путем: измученная бесплодными поисками любви (то есть красоты, гармонии), растлеваемая утвердившейся системой ценностей душа отвергает мир лжи и насилия.
Как религиозный мыслитель и глубоко верующий христианин, Достоевский всегда искал просветляющее начало, способное опровергнуть разрушительный бунт, противостоять нигилизму отчаяния. В финале "Преступления и наказания" Раскольников переживает глубокое нравственное перерождение, но это, говорит автор, уже другая история. Он рассказал ее в «Идиоте» — романе о "положительно прекрасном человеке", собирался продолжить в "Житии великого грешника".
У Фолкнера отношения с богом были куда интимнее, неформальные, как сейчас бы сказали, отношения. Как мы видели, Библия привлекала его живостью характеров и положений, Евангелие (за одним-единственным исключением, о котором дальше) — высотой поэзии. "Мы говорили о Сартре и Камю, — вспоминает Лоик Бювар, французский студент, изучавший в Принстоне политические науки, — и я заметил, что молодежь теперь переходит от веры в бога к вере в человека. Наверное, сказал Фолкнер, вы все же заблуждаетесь, отказываясь таким образом от бога. Бог есть. Это он создал человека. Если вы не считаетесь с богом, вас ждет тупик. Вы вопрошаете бога, а затем начинаете сомневаться, спрашивать: "Почему, зачем?" — и бог исчезает… Конечно, я говорю не о персонифицированном или механическом боге, но о боге, являющемся наиболее законченным выражением человечества, о боге, существующем как в вечности, так и сегодня".
Это запись по памяти, а вот — стенограмма беседы'
Вопрос. Что, художник использует христианство просто как инструмент, наподобие того, как плотник орудует молотком?
Ответ. У плотника молоток всегда под рукой. Все — христиане, если мы только договоримся, что понимать под этим словом. Это индивидуальный кодекс поведения каждого, следуя которому личность возвышает себя над собственной природой. Каков бы ни был символ — крест, распятие, да что угодно, — этот символ есть напоминание человеку о его долге перед человеческой расой. Христианские аллегории — это матрицы самопознания и самооценки. Они не могут научить человека добру, как учебники учат началам математики. Они говорят ему, как открыть себя, как выработать моральный кодекс и стандарты поведения, в согласии с своими возможностями и устремлениями, показывают несравненный пример страдания, жертвенности и обещания, надежды.
А такое, например, рассуждение доброму верующему могло бы показаться профанацией: "Пишешь о том, что знаешь, а христианская легенда — она в сознании любого христианина; несомненно, она также и в сознании мальчишки из провинции, из южной провинции. Мое детство, да и вся жизнь прошли в маленьком городке штата Миссисипи, и христианство вошло в мое сознание. Я с этим вырос. Я ни о чем особенном не думал — просто принял его. Оно есть во мне — и все. То есть совершенно не имеет значения, верю я в бога или нет, просто христианство — во мне".
Вряд ли, конечно, от художника, рассуждающего таким образом, можно ожидать создания образов, хоть отдаленно напоминающих Льва Николаевича Мышкина или Алешу Карамазова; тем более — трудно ожидать четких формул-идей. И все-таки Гарри Уилберн свое кредо высказывает, свое «верую» произносит.
Но не сразу.
Читавшие "Дикие пальмы" заметили, конечно, сколь выпрямленным оказался в нашем изложении сюжет романа.
Собственно, не сюжет даже, ибо единого сюжета нет, это роман-кентавр, в котором параллельно, нигде на поверхности не пересекаясь, текут два повествовательных потока. Рассказ о приключениях любовников постоянно прерывается рассказом о приключениях безымянного персонажа — Высокого 'Каторжника. События разделены не только в пространстве, но и во времени, между ними — десять лет, но могло бы быть больше, могло меньше — никакого значения это не имеет. Параллельная история озаглавлена — «Старик», так — почтительно, и любовно, и опасливо — называют Миссисипи здешние негры.
Трагическая мелодия, пояснял Фолкнер, нуждалась в контрастном звучании, "вот я и придумал другую историю — в качестве полной антитезы первой, своего рода контрапункта. Я не писал два отдельных рассказа с тем, чтобы после рассечь и перемешать их. Я писал их так, как вы сейчас их читаете, как последовательность частей. Глава из "Диких пальм", затем Глава из истории про реку, очередная Глава из "Диких пальм", затем — контрапунктом — продолжение истории про реку; так, мне кажется, сочиняет свои произведения музыкант". В другом случае автор более подробно развивал ту же тему: "Была одна история — история Шарлотты Риттенмайер и Гарри Уилберна, которые всем пожертвовали ради любви, а затем утратили ее. И до тех пор, пока я не принялся записывать эту историю, я и понятия не имел, что получаются две отдельные истории. Но, дойдя до конца того, что сейчас составляет первый раздел "Диких пальм", я вдруг почувствовал даго чего-то не хватает, рассказ нужно усилить, приподнять его наподобие контрапункта в музыке. Тогда я принялся за «Старика» и писал его до тех пор, пока "Дикие пальмы" не потребовали возвращения. Что ж, я оборвал «Старика» там, где сейчас кончается первый раздел этого "параллельного сюжета, и вернулся к "Диким пальмам", и принялся развивать тему, пока она вновь не начала угасать. И опять поддержал ее звучание за счет истории-антитезиса, где рассказывается о человеке, который обрел любовь, но изо. всех сил старается от нее избавиться, вплоть до того, что добровольно возвращается в тюрьму, где он сможет чувствовать себя в безопасности. Оба сюжета возникли сами по себе, как бы по необходимости. Но в основе — история Шарлотты и Уилберна".
Писатель, как видим, все время нажимает на технику — контрапункт, созвучия, контраст. Один литературный критик с музыкальным образованием даже сделал нечто вроде нотной записи романа, показав, как начало каждой очередной главы подхватывает в соответствующей тональности затухающую к концу тему предыдущей.
Но книга все же — не симфония и не рондо (хотя композитор Вирджил Томпсон и решил было написать по мотивам "Диких пальм" оперу, даже вступил с Фолкнером по этому поводу в переписку; ничего из этой затеи в конце концов не вышло). Помимо всего прочего, обе части — "Дикие пальмы" и «Старик» обладают каждая такой внутренней цельностью, что, кажется, можно для удобства связать растерзанные на куски тексты и читать их в последовательности — как два самостоятельных произведения. К этому, между прочим, подталкивает нас издательская практика: обе части нередко публиковались по отдельности. И автор не возражал. Первое же из предложений в этом роде (дело было уже в начале пятидесятых) он воспринял так: "Да ради бога, пусть делают, как хотят. Думаю, правда, что расчленение "Диких пальм" надвое разрушит ту идею, которую я стремился воплотить. Но, очевидно, мое писательское тщеславие (если это тщеславие) уже настолько удовлетворено, что не нуждается более в такой мелочной самозащите".
Позиция, конечно, двусмысленная, если не вовсе соглашательская. И вряд ли писателя оправдывает то, что в ту пору ему было не до препирательств с издателями: "Я настолько близок, — продолжает он несколько извиняющимся тоном цитируемое письмо, — к завершению большой книги, что боюсь, как бы молния не влетела мне в окно прежде, чем я поставлю последнюю точку".
Тем более не оправдывает, что ведь и впрямь разделительные операции производят опустошительный эффект. И дело тут далеко не просто в музыкальных сцеплениях.
Вот история, рассказанная в «Старике». Восемнадцатилетний юноша, начитавшись детективных романов, попытался ограбить поезд. Естественно, его поймали и приговорили к пятнадцати годам каторжных работ. В это время разбушевалась, вышла из берегов Миссисипи (в основе — так называемое Великое наводнение 1927 года, когда и происходят события, здесь описанные), и заключенных послали на выручку местным жителям. Ситуация, изображая которую Фолкнер, конечно, мог бы дать выразиться своему замечательному пластическому дару; но он и в этом случае не стремится к живописанию, его по-прежнему волнует универсальная идея, недаром в системе намеков, щедро рассыпанных по тексту, наводнение уподоблено библейскому потопу, а островок, который вода случайно пощадила, — вершине горы Арарат.