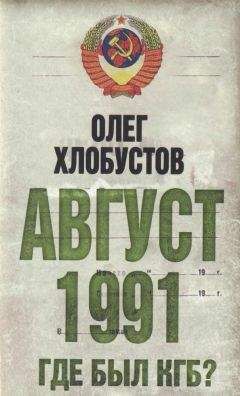Олег Попцов - Аншлаг в Кремле. Свободных президентских мест нет
Анекдот той поры очень точно передавал состояние того самого общества вечного светлого будущего. Президент США Ричард Никсон выговаривает «дорогому Леониду Ильичу Брежневу»:
— Господин Брежнев, какая же у вас демократия? Вот у нас в Америке, каждый может подойти к Белому Дому и во всеуслышание критиковать президента Соединенных Штатов.
Брежнев в ответ:
— Так и у нас так же, господин Никсон, каждый может выйти на Красную площадь и абсолютно свободно критиковать президента Соединенных Штатов.
А затем горбачевская перестройка и попытка демократических реформ. Реформы в полном объеме не случились, а вот «разговорить» страну Михаилу Горбачеву удалось. Мнения в партии разделились. И, хотя в целом партия приняла свободу слова, это давало возможность, в том числе, и партийному руководству сравнительно открыто критиковать своих партийных оппонентов, но чувство массовой свободы партийных чиновников крайне настороженно. Им бы хотелось поле критики замкнуть рамками среды обитания высших чиновников. Но свобода слова повела себя неадекватно. А когда отменили 6-ю статью Конституции и КПСС лишилась роли единственной правящей партией, мы оказались в другой стране. Была предрешена не только судьбы свободы слова, но и судьба Советского Союза. Культ КПСС с ее жесткой партийной дисциплиной, а порой дисциплиной беспощадной, были теми обручами страха, которые стягивали страну и держали ее, как единое целое. Увы, но это именно так. Ушел страх перед правящей, всемогущей восемнадцатимиллионной партией, которая присутствовала всюду. В детских садах, в школах, в ЖЭКах, больницах, на заводах, в институтах, в театрах, в армии, КГБ, комсомоле, профсоюзе, в каждом доме, и в каждой квартире. И, более того, в каждой постели. Бесспорно, в процессе перестройки КПСС изменилась. Но это ей не помогло.
Впрочем, другой она становилась уже при Хрущеве и, тем более, Брежневе. Ничего удивительного в том нет: нам трудно признать, что в великом Советском Союзе, объединяющей силой была энергия страха. Нет, идеи интернационализма, гордость за построенную первую в мире страну социализма, которая стала знаковым фактором в мировом развитии, были. Как и гордость за военную мощь великой державы, и победа в немыслимой войне с немецкими захватчиками, и покорение космоса, все было сверхвесомо и сыграло роль усиления веры в значимость страны. И, тем не менее, страх оказаться вне этого присутствовал всегда. Собирал воедино все лучшие человеческие качества, народную волю и его великое трудолюбие все-таки страх. И прежде всего, страх поступить не так, как положено и продиктовано решением партии. И на целину ехали побуждаемые партией, и на ударные стройки, но еще и потому, чтобы не оказаться изгоями, поступившими «не как все», охваченные «единым порывом». Такая вот странная технология. И если вдуматься: китайская модель развития держится на этом объединяющем компоненте, внедренным теперь уже в китайскую ментальность страха и подчиненности коммунистической партии Китая.
И вот объединяющий страх ушел. И мы вроде бы живем, не голодаем. Правда, страны, в том понимании — великой страны больше нет. Что же пришло на смену? Я не хотел бы разбивать на составляющие наши приобретения, а параллельно — наши утраты. Уже было замечено, что это рискованное сравнение. Счет, как правило, оказывается не в пользу приобретений. Впрочем, очень многое зависит от того, ориентируясь на какую шкалу ценностей вы делаете подобный анализ.
Главный вывод, который напрашивается: чувство свободы, пришедшее на смену чувству страха, разобщило нас. Это логично.
Но если свобода способна нас только разъединить, как сохранить единое государство, которое и делает нас сильными? А проще говоря, чего мы должны бояться в этом мире обретенной свободы? Боже мой! Сам-то я понимаю, что говорю? Ладно, психиатры разберутся. Обратите внимание, мы вновь возвращаемся к образу страха, к чувству опасности, которые должны объединить нас перед непредсказуемыми вывертами свободы. Следовательно, сам по себе страх не есть абсолютный порок. И сегодня он нам необходим более, чем когда-либо. Мы непременно начнем уточнять, что страх подавления, унижения, страх перед жесткостью, страх перед несправедливостью — это, конечно же, порок. А страх остерегающий или просто осторожность, страх перед нарушением закона или законопослушность, правовая культура, страх быть осужденным обществом или соблюдение элементарных общепринятых правил жизни среди людей — все это что? Иной страх? Страх благородный, если вообще запуганность может быть благородством? А тогда вопрос, где грань перед одним и другим страхом? Всякая классификация уязвима. Если мы не можем жить без страха, и некий «норматив страха» обязателен, а свобода, как среда, разобщает нас, так что же нам делать? Какой страх может, не угнетая, не преследуя, объединить нас? И существует ли он в природе? Ба! Существует! Это страх утратить обретенную свободу. Почему мы не осознаем этого? Потому что обрели свободу, не обрамленную законом. В стране, переживающей очередной революционный синдром, любое развитие имеет одну и ту же особенность: сначала — процесс, а затем — закон. По этому принципу шли все наши реформы. Законы опаздывали, процесс уходил вперед и правил страной Беспредел, а не Власть и Свобода.
И отсюда удручающий вывод: мы обрели свободу, которая раздавила нас. Мы обрели демократию, которая открыла дорогу г-ну Беспределу и была проклята подавляющим большинством общества. Демократия и свобода — устойчивые синонимы в мировой политической семантике. Мы обрели демократию, которая- не сумела защитить нас. И обыватель во всеуслышание заявил, если она столь непредсказуема и неспособна обезопасить мою собственную жизнь и жизнь моих детей, зачем она мне? Он не сказал, что может быть, мы построили не ту демократию. Что ее нужно лечить, совершенствовать, что-то скорректировать, потому, как она на самом деле значима, она — ценность. Ничего подобного! Обыватель сказал весомо и жестко: «Зачем она мне?» Увы, увы, увы: «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Это о нашей свободе. Нам надо решать невероятной трудности задачу, доказать подавляющему большинству общества созидательную способность и значимость свободы. Понять, наконец, в чем же сила свободы? И есть ли она? Или свобода, отрицающая тоталитаризм, авторитаризм, диктатуру, бессильна по существу, потому как, свергнув режим запретов, как бы символизирующих порядок и дисциплину, ничто, кроме хаоса и беспредела, демократия у нас, в России, породить не смогла. К сожалению, такое мнение — не частность.
Это цена за неумелость власти, утратившей управленческий профессионализм. Это цена за демократию, которая вывела криминал на политическую арену и сделала его едва ли не стержнем и опорой власти как таковой. Это цена за рынок, который якобы все отрегулирует, а на самом деле уничтоживший чувство ответственности власти за российскую промышленность, науку, сельское хозяйство и сделавший оставшихся интеллигентов изгоями в собственной стране.
Попробуйте в этих условиях доказать, что именно свобода приводит нас к единению и вернет утраченные силы и достоинство государства. Сущностная проблема русского человека во все времена: он ставит знак равенства между не сочетаемыми понятиями свободы и воли. Это наше историческое наследие со времен крепостного права. Потому что воля — не что иное, как свобода, не окантованная законом. И Емельян Пугачев, и Степан Разин, и Иван Болотников, другие крестьянские бунтари-разбойники — воплощение обретенной воли, управлять которой по законам толпы неминуемо будет свой «Гапон», а лучше атаман-предводитель. Неслучайно, что большевистская революция превратила их разбойников в народных героев, давая понять, что смута, войны и моря крови, которые они сотворили, пусть очень далекое, но предшествие октября 1917 года. Не восстание декабристов, восстание во имя свободы, во имя демократических норм, не свойственных монархии, а «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» Емельяна Пугачева.
Революция не опиралась на интеллигенцию, а противостояла ей. Вы не улавливаете схожесть между 1917 и 1990 годом? Реформы не опирались на интеллигенцию, а противостояли ей. При этом люди, заправляющие реформами, выделяли себя в особую социальную структуру — менеджеры. Они не числили себя интеллигенцией, так было удобнее с ней расправляться. И мнение Егора Гайдара и его окружения об интеллигенции очень схоже с мнением Владимира Ильича Ленина: «На деле это — не мозг, а говно. К интеллигенции я большой симпатии не питаю. Наш лозунг «ликвидировать неграмотность» отнюдь не следует толковать как стремление к нарождению новой интеллигенции. «Ликвидировать безграмотность» следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель — вполне практическая. Только и всего».