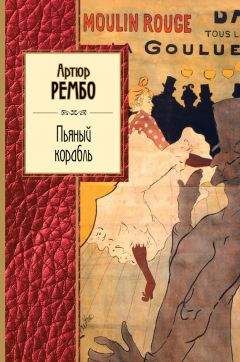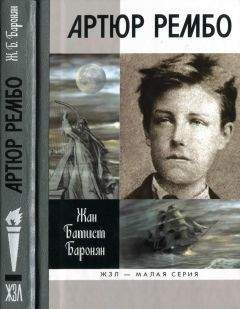Аркадий Стругацкий - Избранная публицистика
— В съемках вы принимали непосредственное участие?
— Только на уровне сценария. Правда, Аркадий ездил на съемки «Сталкера», а меня пытались затащить на съемки фильма «Отель „У погибшего альпиниста“», но я-то лично всегда считал, что это бессмысленно.
— Вашей страстью были почтовые марки?
— Почему были? И есть. Я страстный филателист и начал этим серьезно заниматься с 1948 года. Хотя собрать нормальную коллекцию человеку со средним достатком совершенно невозможно. Потом коллекцию я, как уже говорил, загнал. Несколько лет не собирал марок вообще. Но рассказывать про марки бессмысленно — все равно что описывать вкус вина.
— У Аркадия Натановича тоже была своя страсть?
— Не знаю, страсть ли, но его любимым занятием было собрать друзей, уставить стол спиртным, сидеть, выпивать, рассказывать анекдоты, случаи из жизни, выдумывать, спорить. Потом он, правда, стал более нелюдимым. Его страстью можно назвать чтение. Он читал непрерывно, не мог без книжки прожить трех часов.
— Братья Стругацкие — это ведь было нечто другое, чем собственно вы и собственно Аркадий.
— Конечно, как соединение кислорода и водорода дает нечто третье — то, что называется водой.
— Как вы теперь чувствуете себя без соавтора?
— Представьте себе, что вы с напарником пилите гигантское бревно, много лет пилите. Потом напарник уходит. Бревно осталось, пила осталась. Двуручная. Вы когда-нибудь пробовали пилить дрова в одиночку двуручной пилой?
Борис Стругацкий
«СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО: МИР, В КОТОРОМ КАЖДОМУ — СВОЕ»[54]
Астрофизик Шкловский сначала убежденно и убедительно доказывал: «Мы, человечество, не одиноки во Вселенной. Существует множество обитаемых миров, где разум имеет место быть».
Спустя годы и годы астрофизик Шкловский убежденно и убедительно доказывал: «Мы, человечество, практически одиноки во Вселенной. Не существует множества обитаемых миров, где разум имеет место быть».
Как же так, задали ему вопрос с подходцем, вы — членкор АН СССР, подлинный ученый… и вдруг позволяете себе переменить точку зрения на противоположную?! «Подлинный ученый, — наставительно заявил подлинный ученый, — всегда должен уметь изменить свою точку зрения на противоположную».
Речь, понятно, не о конформизме. Речь о переосмыслении — под влиянием поступающей информации, количество которой переходит в новое качество.
А рассказал эту почти притчу об астрофизике Иосифе Самуиловиче Шкловском другой астроном — Борис Натанович Стругацкий. Помнится, лет пятнадцать назад в ленинградском Доме писателя, на семинаре фантастов, помимо прочего дискутировался тот самый животрепещущий вопрос: одиноки? Не одиноки?
Ну да бог с ним, с ним, с инопланетным разумом (не существует)! Со своим бы разобраться — с человечьим, с отечественным…
Вот Аркадий и Борис Стругацкие! От солнечного коммунарского «Полдня, XXII век» к социально разъяренной «Сказке о Тройке» и далее к безысходным (так! по ощущению) «Отягощенным злом». М-метаморфозы, м-мда…
Как и почему происходил мировоззренческий перелом у Братьев? Вопрос, казалось бы, риторический.
Борис Натанович Стругацкий не счел его таковым.
— Мировоззренческих переломов было несколько…
Буду говорить только про себя. Итак, 1949 год. С трудом, последний в классе вступаю в комсомол — не брали меня: неколлективный антиобщественник! Из пионеров исключили: не желал оформлять местную газету (сам-то я отказывался, совершенно честно полагая, что рисовать не умею, но пионервожатая считала, что это не важно — важно выполнять общественное поручение).
Споры с друзьями-студентами. Компания ребят — очень умненьких, очень начитанных, очень интеллигентных… Полные идиоты! (Поскольку речь идет о политике.) «Если вдруг заболеет товарищ Сталин, — говорили мы друг другу, покачиваясь со стаканом хереса в руке, — что важнее? Здоровье товарища Сталина или моя жизнь?» И это — на полном серьезе! Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль шутить на такую тему, могли бы просто побить. Один только среди нас был умный человек — потому, наверное, что его родители были неизвестно где. Он-то все понимал и не уставал повторять: «Ну что ты вопишь, как больной слон? Тише! Что вы орете на весь Ломанский! Тиш-ш-ше!..» (Я был уверен: он просто боится, чтобы мы своим ором не беспокоили сварливых соседей за стеной.) Впрочем, когда в 1953-м умер вождь, я не плакал. Был потрясен, ошарашен, испуган. Видимо, уже повзрослел. А спустя три месяца откровенно хихикал по поводу «английского шпиона» Берия. («Растет в Сухуми алыча не для Лаврентий Палыча, а для Климент Ефремыча и Вячеслав Михалыча!..». Многие ли двадцатилетние сегодня способны понять, о ком идет речь в этой песенке?) Потом — 1955 год. Два года, как умер вождь. Ощущение от Сталина как от бога уже исчезло, но ощущение от коммунистической идеологии как от религии никуда не делось — она пропитала все поры души и существовала теперь в качестве как бы второй реальности.
Сохранилась замечательная запись в дневнике от 28.10.1961 (идет XXII съезд КПСС): «Дождались светлого праздничка! Хрущев сказал, что не имеет права марксист-ленинец восхвалять и выдвигать одну личность. Неужели же появился, наконец, честный человек! И не начало ли это нового утонченнейшего культа?..»
Однако время идет. Появляется (на моем горизонте) первый самиздат. Новые друзья появляются, на порядок опытнее меня в политической жизни, в истории, в том числе — нюхнувшие лагерей и уже побывавшие в Большом Доме, причем в самые новейшие времена…
Очередной перелом — 1963 год. Историческая встреча Хрущева и прочих искусствоведов в штатском с художниками в Московском Манеже и последующие несколько совещаний по идеологии. И четкая формулировка, которая впервые возникает в наших насквозь коммунистических мозгах: «Коммунизм — это прекрасно. Это будущее мира! Но сегодня нами управляют жлобы и враги культуры, и как эта ситуация может перемениться — совершенно неизвестно».
И — конец всех иллюзий: 1968 год, вторжение в Чехословакию. Когда стало окончательно, до ледяного холода в душе, ясно: моя страна — просто полуфашистское тоталитарное государство, у которого ничего общего с коммунизмом как с истинной идеологией нет и быть не может. Член КПСС имеет к коммунизму не большее отношение, чем очковая змея — к интеллигенции. Коммунизм — это красивое, изящное, умозрительное… почти писательское изобретение!
— У России, известно, свой особый путь. Правда, никто не может сказать куда… По слухам, когда у Хрущева спрашивали, сохранится ли при коммунизме номенклатура, он отвечал: «Конечно же! Как же без нее?..» Но в принципе мир «Полдня…», «Стажеров», «Далекой Радуги» возможен? (Просто очень хочется.) Где-нибудь, когда-нибудь, у кого-нибудь, на другой планете?..
— Думаю, нет. Для Михаила Суслова, главного идеолога КПСС, коммунизм был обществом, все члены которого с энтузиазмом и радостно готовы были исполнить любое распоряжение партии и правительства. Коммунизм для меня — это общество, населенное людьми, для которых любимым и главным занятием является творческий труд. Уровень жизни при этом может быть повыше или пониже — несущественно. Человек ест, чтобы работать, а не работает, чтобы есть.
Это вот состояние человеческого общества, описанное уже в ранних «коммунарских» повестях братьев Стругацких, похоже, невозможно — просто потому, что вид гомо сапиенс не приспособлен для такого существования. Дай бог, чтобы десять, максимум двадцать процентов половозрелого человечества способны оказались заинтересоваться хотя бы в большей или меньшей степени своим трудом. Над остальными же вечным заклятьем висит библейское: «В поте лица своего будешь есть хлеб свой», со всеми вытекающими из этого угрюмого лозунга последствиями — категорическое нежелание работать плюс неудержимое стремление к халяве. Светлая мечта — сидеть на одном стуле, положив ноги на соседний, с бутылочкой пивка в расслабленной руке, а для разнообразия поигрывать на компьютере в Doom, но можно и не поигрывать.
Избавившись от иллюзий, братья Стругацкие пришли к другой идее — так называемого Справедливого общества. В середине 60-х мы написали роман «Хищные вещи века», в котором, как нам тогда казалось, заклеймили бездуховное общество потребителей-мещан. И только спустя добрый десяток лет мы вдруг поняли: у нас получился мир скорее хороший, чем дурной. Мир, в котором каждому — свое. Каждому по его воспитанию, по его понятиям чести и совести, по его представлениям о свободе личности. Единственное ограничение: «Твоя свобода кончается там, где начинается свобода соседа».
— В «Хищных вещах века», в Справедливом обществе некие интели сбрасывают на отдыхающую публику слезоточивые бомбы и вообще всячески агрессируют, лишь бы «расшевелить это болото». И насколько авторы по менталитету совпадают с интелями?