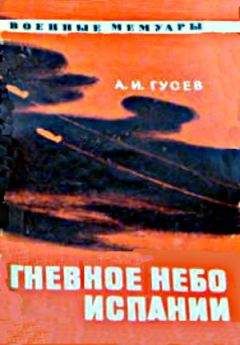Анатолий Кузнецов - На «Свободе». Беседы у микрофона. 1972-1979
Есть другое. Религия. Увлечение любимым делом. Любовь. Семья. Природа. Спорт. Есть много еще, к счастью, вещей, государственному принципу неправды неподвластных, там можно иногда — с усилиями, а то с опасностью, а то в глубокой тайне — создать свой микромир, свою микрообласть жизни не по лжи.
Я давно потихоньку наблюдаю себя и тех, кто, как я, навсегда решается покинуть Советский Союз. Поначалу — разительный контраст между нами и людьми, родившимися и живущими на Западе. Выехав из СССР, мы перевозбуждены, испуганны, подозрительны, уязвимы, большинство, как минимум, неврастеники в той или иной степени. Иной вроде держит себя хорошо. Ну, думаешь, вот наконец первое исключение. Ничего подобного: при случае вдруг ка-ак проглянет его подлинное состояние нервов… Но смотришь, одному понадобился лишь год, чтобы все это с него сошло. Другому — два года, три, четыре… Сильна человеческая природа, она все-таки создавалась миллионы лет. Сопротивление противоестественным вещам в ней передается по наследству. Среди всего прочего — и сопротивление лжи, я так считаю. Иначе как бы в Советском Союзе, родившись при советской власти, в глаза не видев иного образа жизни, кроме советского, могли вырастать люди такого типа, как Сахаров, Солженицын, Буковский?
Так что если бы в Советском Союзе да прекратилась жизнь по лжи, то, может быть, никакого светопреставления не случилось бы, а лишь вырвался бы всеобщий и вот уж действительно небывалый вздох облегчения?..
26 сентября 1976 г.
Про Фому и сельское хозяйство
Хочу рассказать про Фому. Нет, не шутка, не про Фому да Ерему а про реального человека, простого крестьянина, когда-то доброго знакомого нашей семьи по имени Фома, а фамилии я не помню, вернее, просто и не знал. Фома да и Фома.
Он был высокий, несмотря на то что ходил сгорбившись, глядя в землю перед собой — живая буква «Г»; очень тощий, с обветренным бурым лицом, заросшим седой щетиной. Малограмотный (расписываться умел), молчаливый-премолчаливый, словно апатичный; никаких эмоций на лице. И серый, серый, как все колхозники, — потому что одеты они всегда во все поношенное, выгоревшее, пропотевшее; на улице города сразу их видишь, сразу отличишь. Рассказ мой относится к временам еще моего детства, давно это было, и уже тогда Фома был стар, болен. Конечно, он уже в могиле, хотя когда он умер и как — я не знаю. Знаю лишь, как он жил. Это, значит, начало про Фому.
Теперь несколько слов про сельское хозяйство, один краткий эпизод, вставка, нужная для сюжетного плана.
Однажды, когда я уже считался известным писателем и где-то в годах 60-х по распоряжению самого Отдела культуры ЦК КПСС был поселен в городе Туле, так сказать, поближе к жизни, и Тульский обком партии счел своим долгом руководить моим идейным развитием, тульский секретарь обкома предложил мне поехать с ним в поездку по области, посмотреть, как сельское хозяйство поднимается на недосягаемую высоту в свете последних решений и прочее. Надо сказать, что я потом не жалел, что поехал. Хотя мы ездили в обкомовской, конечно, самой настоящей черной «Волге», перед которой с дорог шарахались грузовики, тракторы и стада; хотя питались в задних комнатах ресторанов в обществе местных предисполкома и начальников КГБ, а ночевали в специальных, забронированных для партийных приезжих квартирах, осколки жизни все равно, непрошеные, сами лезли в глаза, а главное — ездили-то мы, кроме шофера машины, лишь двое, общались, значит, и после этого путешествия я стал значительно лучше понимать внутренний мир этого типа людей — секретарей. Сейчас, однако, речь не об этом, а об одном эпизоде касательно сельского хозяйства. Ездили мы по колхозам, где секретарь собирал актив, говорил слова, давал указания и проч.
Я много видел в жизни нищеты, но то, что увидел в глубине Тульской области через пятьдесят лет после Октябрьской революции, все же было потрясающе. Деревня: неприкаянно торчат на юру бурые, разваливающиеся избенки. Ни деревца, ни цветочка, ни заборчика — земля усыпана лишь мусором и залита помоями. Крыша в провалившихся дырах — не чинится. Дверь повисла на одной петле — пока не отвалится вторая. Внутри — не жилье, а какая-то пещера зловонная, ветхое тряпье, голые дети, мутный самогон в бутылке на столе. «Все губит у нас пьянство, вот где бич», — вздыхал секретарь. И вот он велел шоферу ехать в показательное хозяйство, чтоб хоть настроение поправить. На подъезде к лучшему, показательному колхозу он велел остановиться. Мы вышли. Время было колоситься, но рожь не поднялась еще выше колена. Редкие стебли можно было сосчитать пальцами на каждом квадратном метре. Кроме того, во время сева не то тракторист задремал, не то по какой иной причине, — был сделан огромный огрех, получилась такая псутая вытянутая плешь в несколько соток, незасеянная. Столько земли, как этот огрех, было когда-то у моей бабушки под грядками у нашей хаты в Киеве на Куреневке. Сперва она собирала с них редиску, потом помидоры, лук, капусту, картошку, щавель, а под забором — и кукурузы рядочки, подсолнухов несколько. Нашей семье хватало этого и на лето, и до конца зимы. Потому что то были свои грядки, которые пестуются, удобряются, поливаются потом без меры и без призывов и указаний.
Секретарь долго смотрел на этот огрех, на это поле и вдруг так устало, прямо безнадежно сказал: «Столько лет бьемся! Колхозы, комбайны, тракторы, сажалки, копалки, вырывалки… А дореволюционный уровень урожайности — недостижим».
У Фомы была самая обыкновенная, но беленькая и опрятная хата — и с петухами по стенам, и с рушниками, и с мальвами под окнами, и с вишнями, — и корова, и пара лошадей. Жена и дочь. Иногда в воскресенье они привозили продавать на нашем Куреневском базаре то клубнику, то помидоры и огурцы, то картошку потом, к осени, мешками — и, не продав за день, должны были оставаться ночевать, так они с моим дедом и бабушкой познакомились и ночевали иногда. Наша хата была близко от базара, и у нас часто кто-нибудь из села ночевал. И мы ездили в село; мое детство, можно сказать, проходило равно как в городской, так и в сельской атмосфере.
Грянула коллективизация. То был форменный ужас. Я, между прочим, за всю мою жизнь не встречал человека, который бы о коллективизации отзывался с восторгом, вообще нашел бы для нее хоть одно доброе слово. Конечно, если не считать писателя Михаила Шолохова с его «Поднятой целиной». Крестьян загоняли в колхозы револьверами, голодом. Как известно, на Украине, на Кубани, реквизировав подчистую все продукты до последней картошки и лепешки, создали искусственный голод, от которого в 1932–1933 годах умерло от шести до семи миллионов человек. Судьба Фомы, о котором рассказываю, была печальной — его раскулачили. Какой из него кулак? Сам работал, семья работала. Но известно, как это делалось. Пара лошадей — разве не кулак? У них забрали абсолютно все — вернее, просто выгнали из дому. И то еще было счастьем, что не отправили в ссылку. Почему? Может, потому что все же не настоящий кулак, может, просто эшелонов на всех не хватило. Так — выгнали на все четыре стороны к зиме глядя, и все. Хоть в лес иди. Фома с семьей и пошел. Выкопал землянку при опушке. Желуди, грибы ели, потом зимой — кору и почки. Жена и дочь опухли и умерли. Фома чудом выжил, по весне ползал и ртом щипал дикий щавель, первые зеленые побеги.
Летом он плел корзины, приносил в город продавать и накопил денег, на которые купил курицу. Он носился с нею как с сокровищем, в деревню к петухам носил, она нанесла яиц и высидела цыплят. На опушке вокруг землянки он сровнял кочки, вскопал и засадил огород и так оказался с запасом на зиму. А следующим летом у него, огороженная плетнями, с курятниками и навесами плетеными же, была уже, можно сказать, целая куриная ферма. Он постоянно привозил на базар корзины яиц. К зиме он построил себе вполне приличную хату — мазанку.
Тогда в один прекрасный день к нему нагрянули опять сельские активисты — и раскулачили вторично. То есть опять все забрали — и кур и хату, а самого выгнали на четыре стороны. И опять ему везло: опять никуда не отправили, оставили тут умирать.
Как передавали люди, куры на колхозной ферме, которых не успели съесть активисты, передохли, а Фома снова каким-то чудом выжил. На этот раз он ушел в другой район и уж в совсем глухие леса. Бобылем, дикарем жил неизвестно как. Только однажды встретила его бабушка на базаре — он продавал кроличье мясо. Он, оказывается, в лесу кроликов поймал — и кроличью ферму на этот раз развел. Они плодились, как саранча. Корм в лесу — под рукой. Фома и мясом торговал, и шкурками, и крольчат на продажу привозил. И опять где-то между болотами картошку посадил, пшеницы ухитрился насеять и гречки и уже строил новую хату.
Не дали ему достроить. Он чуял, к чему идет, потому что принялся по людям, по знакомым мешочки разносить: с картошкой, с морковкой, просил в погребе подержать, мол, у него погреба нет. Даже в город привез и моей бабушке отдал на сохранность торбу гречки. Действительно, пришли. И в третий раз «рас-ку-ла-чили»! Кроликов перебили, начатую хату разломали, самого Фому до полусмерти избили — и выкинули с угрозами, чтоб носа в район не показывал. Мало того, пошли по доносам по его знакомым, где он мешочки разносил, забирали и то, а кто укрыл или как-то сумел отбрехаться, получили предупреждение: узнаем, мол, что он от вас что-то получил, — берегитесь!