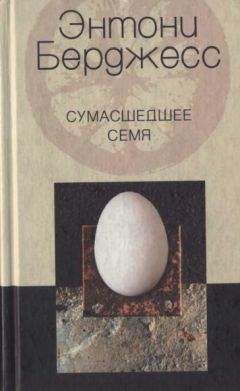Энтони Берджесс - Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса
В конце 1930-х годов Оруэлл в эссе о британцах отметил, что не стоит пренебрегать мелочами жизни островитян, ибо они часть национальной культуры и, вероятно, значат больше, чем кажется на первый взгляд. Приезжая в Британию и останавливаясь в гостиницах, я радуюсь плотному британскому завтраку (позаимствованному и американской культурой). На континенте в отелях, а также в домах тебе предлагают кофе и круассаны, и в этом несытом начале дня я вижу причину утренней раздражительности французов. С утра голодный французский таксист или почтовый служащий выливает свою желчь на клиента. Потом он съедает тяжелый обед, и желчь в нем только разыгрывается. У британцев проблем с желчью, кажется, нет.
Британцы слишком много пьют. В частности, и этим можно оправдать приступы агрессии и даже безобидную театральность, обычно не свойственные их поведению, поскольку у них, островитян, оно сформировано привычкой к тому, что частная жизнь есть неприкосновенная территория. Иностранцам британцы кажутся холодными — холодностью жители густо населенного острова ограждают свою частную жизнь. Холодность улетучивается в театральности пьянства и в трезвости театра. Британия родила лучшие пьесы на свете и лучших на свете актеров. Сейчас по французскому телевидению еженедельно показывают снятого на Би-би-си полного Шекспира с субтитрами, и французы, с которыми мне доводится говорить, изумляются мастерству и страсти совсем почти неизвестных актеров. Приехав в Британию, они могли бы также изумиться актерским талантам местных жителей, никогда не ступавших на сцену. Дело в том, что британцы, будучи такой смесью национальностей, не уверены в своей идентичности и ищут ее в разыгрывании ролей.
Одна из причин, почему британцы, при их неискоренимом лицедействе, не хотят совсем отказаться от классовой системы, состоит в том, как ясно показал Бернард Шоу в «Пигмалионе», что эта система проявляет себя в поверхностных особенностях речи и манер, которые искусному актеру, сидящему в каждом британце, не так уж трудно сымитировать. Классовая система уже не выражается в четко экономическом расслоении, она имеет мало отношения к замкам и просторным акрам, зато предоставляет массу возможностей для социальной комедии. В Британии лучшие на свете аферисты.
Оруэлл заметил, что британцы равнодушны к искусству и обожают цветы. Французы, интеллектуалы, склонные к абстрагированию, не знают названий цветов, но могут прочесть вам лекцию по ботанике. В увлеченности среднего класса своими садиками Оруэлл видел проявление тяги к частной жизни. Это — эксцентричность, в смысле отстранения от жизни общественной. Это одно из британских хобби. Недавно около Дублина я познакомился с англо-ирландцем, который оклеивал стены своего ветхого домика страницами «Поминок по Финнегану» (книгу читать он не предполагал) — это очень в британском характере. Хобби; не искусство. Британия рождает прекрасных писателей и дает пристанище прекрасным музыкантам с континента, но не величает своих артистов «maestro» или «cher maître». Это — одно из проявлений недоверия к интеллектуализму.
Мы изобретаем судно на воздушной подушке, реактивный двигатель, компакт-диск, систему «Dolby». В Кавендишской лаборатории с помощью сургуча и веревочки мы расщепляем атомы. Когда доходит до того, чтобы похвастаться нашими открытиями или протолкнуть наши продукты, на нас нападает жуткая застенчивость. Недавно в новостях на американском телевидении был материал о спокойном, ненавязчивом юморе британской телерекламы; ведущий высоко оценил его, но вынужден был добавить: «Британцы терпеть не могут продавать». Призывы правительства к британским промышленникам быть агрессивнее, как немцы, японцы или американцы, не учитывают национального характера. Британцы не будут превозносить свои продукты, а скорее выскажутся о ник пренебрежительно. Сильное высказывание им претит — сдержанность у них в крови. Мы можем грустно посмеяться над тем, что фильм о героизме наших летчиков во время войны преподносится под сурдинку: «Не бог весть какое полотно, но в принципе, кино занятное», но еще раз с сожалением осознаем, каковы мы. Агрессия наша — удел молодых, которые пускают в ход ноги, но в конце концов вырастают в примерных законопослушных граждан.
Тем из нас, британцев, кто работает в искусстве, легче заниматься им в странах, где мы «maestro» и «cher maître». Нам приходится сетовать на антиинтеллектуализм наших соотечественников, но мы понимаем, что с этим вряд ли что поделаешь. Я, случалось, негодовал, что королевское семейство засыпает в опере и во все глаза следит за Аскотскими скачками; но было бы как-то неловко иметь королеву, которая читает Кафку, и принца-консорта, со знанием дела рассуждающего о раннем Шёнберге. Мы не захотели бы, так сказать, континентализации Британии, будь она поощряема примером хоть законодателей, хоть титульной главы государства. Мы остаемся отдельными, островитянами, — сикхи, кельты, китайцы, англосаксы и прочие.
Я понимаю, что представил британский характер с весьма негативной точки зрения. Видимо, так и должно быть, поскольку легче определить британца через то, чем он не является — а именно французом, — чем с помощью конкретно его собственных атрибутов, которые он не так уж жаждет выставлять напоказ. Французы, естественно, не сосредотачиваются на достоинствах бриттов. В телерекламе, например, чая «Твайнинг» или какой-то марки виски, чтобы обозначить происхождение продукта, они прибегают к годами проверенной карикатуре: аристократ в смокинге, попивающий чаек, между тем как рушится его дом, или костистый шотландец в юбке. Они, как и мы, цепляются за национальные стереотипы. Они признают качество, известное как британское чувство юмора, и по воскресеньям показывают переведенное на парижское арго шоу Бенни Хилла, силясь проникнуть в его юмор. И не понимают предваряющую ролик заставку Дональда Макгилла. Но думают, что понимают британское лицемерие.
Моя жена — итальянка, как и большинство итальянцев, любит Англию и, по меньшей мере, раз в неделю напоминает мне, что я, британец, — лицемер. С британским терпением я вынужден объяснять ей, что лицемерие — один из аспектов нашей театральности и нашего островного самосознания. Мы должны представить миру добродетельный фасад, тайно предаваясь за ним умеренным порокам, дабы отстоять таким образом свою частную жизнь. Другими словами, мы сознаем необходимость проводить различие между миром общественных ценностей и тем миром индивида, который никакой моральной системой не определяется. Мы делаем вид, что любим животных — и охотимся на лис. Мы притворяемся гуманными, но мы единственный народ, которому потребовалось Общество по предотвращению жестокого обращения с детьми. Мы охотно напиваемся и при этом настолько нравственны, что принимаем законы о торговле спиртным. То есть мы признаем необходимость общественной морали, но в душе понимаем, что это — спектакль. Тем не менее стыдливо об этом умалчиваем. Без лицемерия, однако, мы не создали бы величайшую литературу. Стоит задуматься об этом — и обращаюсь я не только к жене.
1987
Энтони Бёрджесс
Джеймс Джойс: пятьдесят лет спустя
© Перевод Анна Курт
Бо́льшую часть своего шедевра (я имею в виду роман «Улисс») Джеймс Джойс написал в Цюрихе в годы Первой мировой войны. Здесь же во время Второй мировой он умер. Ему стоило немалых трудов выбраться с семьей из оккупированной нацистами Франции и получить убежище в нейтральной стране. Оставаясь гражданами Ирландии, они очень дорожили английскими паспортами. Внук Джойса Стивен, никак не связанный с Англией, продолжает эту семейную традицию. 16 июня 1982 года, когда отмечали сто лет со дня рождения Джойса, его родной Дублин без особого энтузиазма воздал почести величайшему из своих сыновей — памятник здесь, мемориальная доска там, — ведь Ирландия никогда его не любила. Его издатели жили в Лондоне, а покровительница, Харриэт Шоу Уивер, была англичанкой и примыкала к протестантскому движению квакеров. В ранних книгах Джойс возвеличил английский язык, а в поздних, по мнению многих, стремился разрушить его. Какая страна может считать его своим гражданином? В 1904 году вместе со своей возлюбленной из Голуэя Норой Барнакл он покинул Ирландию и жил в Триесте, Цюрихе и Париже. Он был настоящим изгнанником: единственная его пьеса так и называется «Изгнанники», и его можно считать писателем-космополитом, поскольку ни одну страну он не считал своей (за исключением этой странной истории с английским паспортом). И вместе с тем по-настоящему его интересовала лишь одна довольно узкая тема: главным героем всех его книг был Дублин.
Мы можем отправиться в Дублин, как делают многие, и попробовать отыскать там призрак юного Джойса — бедного, оборванного, близорукого, с головой погруженного в литературу и уже полиглота, — но того города, который он знал, больше нет. То был один из прекраснейших городов Европы, несмотря на нищету и перенаселенные кварталы, которые специалисты по подрывным работам ныне успешно сносят. Современный Дублин — это типичный европейский город с офисами, магазинами и дискотеками. Его население составляет более миллиона человек, и японские фирмы, производящие и продающие электронику, многим предоставляют работу. Город по-прежнему сильно пьющий, и его подлинная жизнь происходит в пабах, за пивом, виски и странными разговорами. Мужчины слишком много пьют, чтобы интересоваться сексом. В Дублине гомосексуалистом считается тот, кто женщинам предпочитает выпивку.