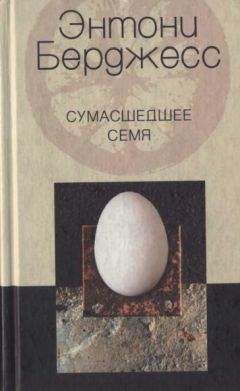Энтони Берджесс - Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса
Энтони Бёрджесс
Успех (One Man’s Chorus)
© Перевод В. Голышев
На днях я взял последний обзор современной английской прозы, напечатанный издательством «Пеликан», и обнаружил, что моей фамилии — так же как, кажется, Джона Фаулза — по-прежнему нет в указателе. Это невнимание никогда меня особенно не огорчало, но было бы приятнее, если бы указатель указывал (вот вам стилистический сбой на почве недовольства) на полное невнимание к моей персоне и в самом тексте. То есть если вас совсем игнорируют, тогда понятно, в чем дело: вы в этом смысле полностью устраиваете игнорирующего. Но в обзоре мое имя всплывает то и дело — не как романиста, а как критика романистов. «Мистер Бёрджесс (сам пописывающий романы) отозвался об Айрис Мёрдок…» Такая вот история — и она мне не нравится. Прошлой весной я получил из изящных, но могущественных рук самой миссис Тэтчер награду — «Критику года». Пришлось принять награду и глупо улыбаться камерам, но, по ощущению, из неправильной исходной точки она, и я, и остальные поднялись не на то плато, и оттуда уже не слезть. Я никогда не намеревался быть известным как критик. Критикой или рецензированием занимаешься, чтобы провести время и платить за газ. Для меня это не профессия.
Своей профессией, к которой я пришел очень поздно (в том же возрасте, что и Конрад, но ему пришлось сначала выучить язык), я считаю профессию романиста и теперь вынужден задуматься, достиг ли я в ней успеха. Сложность с беллетристикой в том, что можно рассматривать ее двояко: как бизнес и как искусство. Недалеко от меня на побережье в Канне мрачно и величественно сидит на своей яхте человек, безусловно преуспевший в литературе как бизнесе. Его зовут Гарольд Роббинс. Он, однако, не удовлетворен тем, что его книги с сексом и насилием выходят огромными тиражами: он хочет, в силу этой чрезвычайной популярности, чтобы его считали величайшим из живых писателей. Никто его таковым не сочтет (его нет ни в одном указателе, ни в одном из мне известных обзоров), и от этого он несколько обижен. Бывает, конечно, когда самый популярный романист одновременно и самый лучший — Диккенс, например; может быть, даже Хемингуэй, — но одно из другого не следует. Мы ожидаем от значительных произведений тонкости или сложности, не привлекательных для широкого читателя. Хорошего писателя часто беспокоят многочисленные переиздания: может быть, произведению не хватает тонкости или сложности? Ему кажется, что он несерьезно отнесся к работе и стал подобием Джона Брэйна[194].
С точки зрения бизнеса я могу притязать, хотя и с оглядкой, на скромный успех. Двадцать пять лет я зарабатываю на жизнь литературной работой. Даже если это означает, что вы можете позволить себе яйцо на завтрак дважды в неделю, это все равно предмет для гордости: вы никого не называете сэром, кроме, разве, чернокожего таксиста в Нью-Йорке; вы можете позвонить из постели в одиннадцать утра и послать кого-то к черту. Такая жизнь обеспечивалась, однако, постоянным прилежанием и правилом писать не менее тысячи слов в день а вовсе не фурором, каким сопровождалась «Уловка 22» или «Княжна Дэйзи»[195]. Больше денег приносила журналистика и писание сценариев, так и остававшихся на бумаге. И тонкой струйкой текли деньги от прозы. Если есть деньги на счете, то потому, что я назойливо принуждал довольно узкий круг читателей покупать по книжке Бёрджесса каждый год. Иначе говоря, не покладал пера.
Неудобство для меня в том, что невнимательный читатель справочников усматривает там признаки моего богатства. У меня три или четыре адреса, но это означает только, что я вынужден был сменить один на другой, потому что сделался persona non grata или обнаружил, что похитители интересуются моим сыном, а некие правительственные установления (как на Мальте) воспрещают мне продажу моей недвижимости. Одно цветное приложение назвало меня — наряду с Ринго Старром и теннесистом Боргом — типичным беглецом от налогов в Монте-Карло. Но с низким доходом не меньше оснований скрываться от налогов, чем с высоким. Если бы это было мне по средствам, я, наверное, жил бы в Англии. Но в каждом художнике сидит страх, что рано или поздно он потеряет способность творить. У него не будет государственной пенсии, и он должен думать о будущем без доходов. Он должен копить, пока может, а британская налоговая система, которой спокойнее жилось бы без художников-частников, копить не позволяет.
Если у меня есть какие-то не большие деньги в разных банках (не знаю, насколько небольшие, — это вполне может быть признаком зажиточности), я не могу претендовать на финансовый успех, соизмеримый с таковым вышеупомянутого Битла, или Караяна, или любого другого поп-музыканта. Не миллионы, упаси Бог. В таком случае успех — если я его добился — должен располагаться в какой-то другой плоскости. Если не в прозе как бизнесе, тогда в прозе как искусстве? Кто скажет? Точно — не сам прозаик. Я написал около сорока книг— по большей части, романов и новелл — и, по правде, ни одной не доволен. Когда критики высказывают одобрение или чаще — неодобрение, я могу только хмуро кивать и знак согласия. Ужасная правда заключается в том, что вы не можете себя улучшить. Изъяны в созданном вами — не столько недостаток художественного старания, сколько врожденные и неисправимые дефекты вашей конституции. Мы все писали бы, как Шекспир или В. С. Найпол, если могли бы: но несколько мешает то, что мы не Шекспир и не Найпол.
Теплое ощущение успеха приходит тогда — если вообще приходит, — когда кто-то прочел одну из моих книг (обычно это человек в ослабленном состоянии, чаще всего в больнице), она открыла ему что-то новое в устройстве жизни, и он хочет выразить свое удовольствие и восхищение. В конце концов, книги пишутся не для критиков, а для людей, особенно если они в расслабленном состоянии. Вот тут действительно успех, чувство, что задача развлечь и просветить выполнена, как полагается. Книга, разошедшаяся миллионным тиражом, редко несет читателю прозрение; функция у нее другая — и тоже хорошая: скрасить время, а потом погрузить в забытье; мякоть кушаешь, косточки выплевываешь. Как бы ни был плох писатель, если он написал книгу, изменившую чью-то жизнь, значит, он достиг того успеха, к которому только и стоит стремиться.
Если писатель чувствует, что у него успех, — что он известен, что его книги читают и даже покупают, если американские литературоведы пишут книги о нем и портье в отеле «Алгонкин» помнит его фамилию, — тогда у него появляется жуткое ощущение, что он больше не движется, что он прибыл. Поднялся на чертово плато, выше лезть некуда, а тем более — возвращаться к прежним увлекательным и страшным борениям. Я рад, что Нобелевская премия или орден «За заслуги» мне не грозят — успех того рода, который означает: «Все, ты достиг. Ничего больше от тебя не ждем. Теперь, ради бога, очисть место для нового поколения». Как может какой-нибудь комитет или критический ареопаг решить, на что все еще способен писатель? Френсис Мирес восхвалил Шекспира, когда тот был еще автором сладкозвучных сонетов и романтических комедий, — и вот он вознесен на английский Парнас, успех, финиш. Какое разочарование, должно быть, постигло Миреса, когда появились «Гамлет» и «Король Лир». Успех — это подобие смертного приговора.
Успех, выражающийся в известности — а такого успеха многим достаточно, — сегодня не то, чего достойно добиваться, поскольку его мгновенно дарит появление в телевизоре. Слава — ни то ни се. Меня еще ни разу не узнал портье в британском отеле и агент авиакомпании. Когда я называю такому свою фамилию, особенно в Америке, меня радушно спрашивают: «Это как Бёрджесс Мередит?» А в Англии: «Это как тот, что перебежал к русским?»[196] Слава может быть составляющей успеха, но многие из самых ус пешных предприятии в истории не приносили славы. Мильтон принимал славу как признание литературного мастерства, но имел он в виду славу своих книг (и то в ограниченном кругу людей ученых и со вкусом), а не свою лично. Великий Джеймс Мюррей[197], отец «Оксфордского английского словаря» отвергал славу с устрашающим достоинством.
Итак, успех, в несколько высокопарном смысле, как я трактую его здесь, означает заслуженную награду за создание чего-то, не принадлежащего миру повседневного существования. Успехом может пользоваться суфле — но не в том смысле, как сонет или симфония (и то и другое, сказал бы Оскар Уайльд, одинаково бесполезны). Мужчина или женщина, создавшие удачное произведение, можно считать, добились успеха. Вознаграждение, если оно финансовое, не только не относится к делу, но и ущербно. Деньги означают потребление, а потребление — помеха в работе. Уйма восторженных писем требует ответа, а это означает, что на писание книг остается меньше времени. Неудивительно, что успех вызывает депрессию.