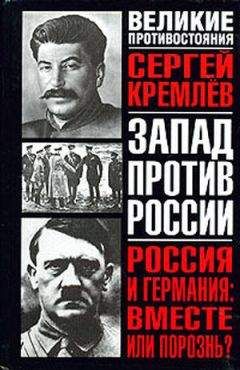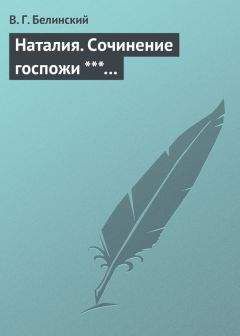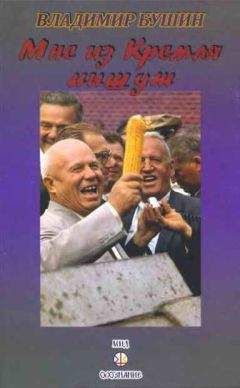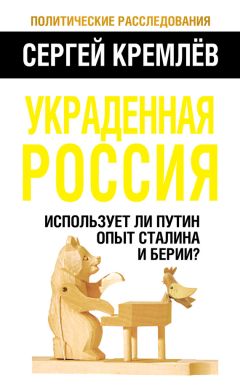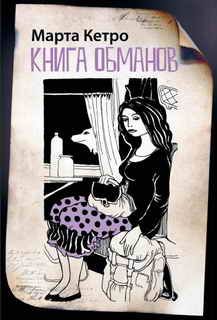Сергей Кремлев - Россия и Германия. Вместе или порознь? СССР Сталина и рейх Гитлера
— На первом месте — личность, но и экономические отношения нельзя сбрасывать со счета.
— Оно и понятно, — ухмыльнется марксист. — Объяснять развитие мира развитием одной Мировой Идеи нынче невозможно. Но отталкиваться надо от экономики, от базиса. А личность — это важный элемент, однако надстроечный… Итак, один говорит: «И экономика тоже важна», другой: «И личность тоже…». Хотя спор о том, что важнее в наше время — историческая личность или производственные отношения — это спор о том, какое крыло у птицы главное. Разве можно сказать: «И второе крыло тоже важно»? Важны оба крыла, потому что на одном птица не летает. Тем более, что по сравнению с нашим веком история раньше ползла. А вот теперь впервые летит на двух крыльях — «экономическом» и «личностном». Подбей одно крыло — рухнет птица Истории… Можно сказать и иначе… В жизни камень летит по дуге. Но в физике принят принцип суперпозиций, когда кривую разбивают на две прямые — вертикальную и горизонтальную. В учебнике, на бумаге, камень летит по двум этим прямым: по горизонтальной — под действием только силы броска, по вертикальной — под действием только силы тяжести. Но в жизни обе силы действуют одновременно. Вот так и наш век. В нем сильные (или напротив — бессильные, как Горбачев или Ельцин) лидеры воздействуют на историю на равных с экономикой. И порой личность перевешивает… Безусловно, даже самый потенциально выдающийся социальный реформатор может стать им в действительности только в том случае, если его личностный потенциал будет востребован соответственно сложившимися историческими условиями. Но если условия будут в наличии, а личности в наличии не будет, то могут не реализоваться целые пласты важнейших событий. Если же личность есть, то она точно улавливает суть ситуации и совершает то, что необходимо совершить для изменения истории в нужном, то есть в созидательном направлении. И это совершается в нужное время и в нужном месте. НЕДАРОМ ТРОЦКИЙ считал, что хотя у Великой Октябрьской революции было, по его мнению, два главных лидера — он и Ленин, но, если бы в Питере был только Троцкий, Октября бы не было. А если бы только Ленин — был бы все равно! Для псевдо-марксиста это — ересь по сей день. А ведь это — правда… История движется не по прямым из учебника физики. Она гибка, как дуга реального полета. И ее все чаще изгибает именно лидер, а не «историческая необходимость» сама по себе. Следуя «чистому» марксизму, в оценке роли личностных качеств для формирования эпохи мог ошибиться даже такой, например, блестящий знаток наполеоновской эпохи, как академик Евгений Викторович Тарле, который уверенно заявлял, что Наполеон относился к солдатам, как к пушечному мясу. Бездушный, так сказать, ставленник новой буржуазии. Ставленник-то ставленник… Но вряд ли солдаты любили бы своего императора горячо и преданно, вряд ли шли бы за ним за тридевять земель, если бы и Наполеон не любил их. Любил от сердца и искренне. По простоте своей душевной солдат простит много чего, но только не фальшь! Ее-то он распознает быстро, ее-то он не пропустит и не простит. Но может быть, Наполеон слишком уж ловко притворялся целых два десятка лет?! Э-э, нет! Не проходит! И поэтому Наполеона и его влияние на свое время нельзя понять, если не видеть, что император французов — это сложный продукт действия разных, но одинаково важных сил. Он — да, ставленник капитала, но он же — и избранник всесильной и взаимной солдатской любви. Был бы только капитал, или была бы одна любовь — и великий Наполеон вряд ли состоялся бы… Да, марксисты Маркс и Энгельс, марксист Ленин, марксист Сталин были твердо уверены, что в конечном счете экономическая сторона дела — главная, а человеческая — ТОЖЕ имеет важное значение… «Тоже» — одно короткое слово! Но угнездившись в воззрениях именно Иосифа Сталина, оно, пожалуй, стоило человечеству «золотого века», который мог стать реальностью уже к концу двадцатого столетия, но который так и не возник… Что я здесь имею в виду? А вот что… ТО, ЧТО Ленин и Сталин оказались во главе раздираемой смутой России — это удача России. Зная сейчас личностный и государственный масштаб всех их российских политических оппонентов как справа, так и слева, можно уверенно заявлять, что никто иной, кроме них, не смог бы увести Россию от судьбы полуколонии Запада или от вообще цивилизационной катастрофы на необъятных российских просторах. Но так и непонятой по сей день трагедией XX века стало то, что Сталин оказался недостаточно гениальным в одном отношении и не смог практически осознать важнейшее заблуждение своих, безусловно, гениальных, но тоже не во всем дальновидных учителей. Поэтому он и совершил ту свою главную ошибку, о которой я скажу чуть позже. В марте 1921 года X съезд РКП(б) принял резолюцию «О будущей империалистической войне», где было сказано прямо: «Съезд считает необходимым, чтобы пролетариату было указано, что буржуазия вновь готовится к грандиозной попытке обмануть рабочих, разжечь в них национальную ненависть и втянуть в величайшее побоище народы Америки, Азии и Европы»… Прогноз, как мы знаем, был в части фактической верным и в реальной истории сбылся менее чем через двадцать лет. Но для того, чтобы приходить к таким выводам, не обязательно было владеть марксистскими методами анализа. Еще за два года до X съезда об этом же (то есть о том, что политика Запада программирует в будущем новую мировую войну) писал тридцатилетний Уильям Буллит в письме к своему бывшему патрону, президенту США Вильсону. Съезд мыслил категорией «массы», Буллит обвинял конкретного Вильсона — разнобой между буржуазной и марксистской мыслью налицо. Но они обе сходились на том, что война неизбежна. Под знаком этого «предвидения» мир и жил все годы до реальной войны. Однако если Буллиту фатализм можно простить, то марксизм здесь изменял собственному основному правилу: «Марксизм не догма, а руководство к действию»… И застыв на одном тезисе о неизбежном предстоящем «побоище», марксистская мысль не смогла верно оценить уникальную ситуацию, которая сложилась к концу тридцатых годов в одной из крупнейших империалистических держав — Германии. Реальный Сталин тут был, увы, не исключением. Роль массы в истории он понимал отлично. А роль личности — значительно хуже. Но и это полбеды… Беда, что даже Сталин так, похоже, и не задался вопросом: а может ли реальная история его века выстроиться не так, как она выстраивается, если он включит в исторический процесс в новом качестве конкретную личность? Точнее — две личности: себя и… И еще одного политического лидера… Возможно, читатель уже и догадывается, кого автор имеет в виду… Сталин видел невидимые пружины реальной истории и умел их учитывать. Однако он не попытался изменить сам подход к пониманию того, как может «выстраиваться» история. А ведь если бы он на рубеже тридцатых-сороковых годов попытался исходить не из постулата «неизбежной закономерности исторического процесса», а из особенностей вполне определенного человека, в этом процессе участвующего, то… То все могло бы пойти иначе! Хотя и вины Сталина здесь нет — он был пусть и гениальным, но сыном своей эпохи и продуктом своей среды. Однако от понимания этого не становится менее досадно. Ведь именно в эпоху Сталина существовал такой политический лидер, повлияв на которого, Сталин смог бы вместе с ним круто повернуть ход мировой истории только к созиданию, развитию и быстрому счастью для всей Земли. Да, Сталин совершил крупнейшую и роковую ошибку. Роковую и для будущего России, и для будущего всей Земли. Он не попытался выйти за рамки уже устаревающих концепций, чтобы осмыслить роль в современной истории Гитлера. То есть единственного нестандартного, кроме самого Сталина, его выдающегося современника и своего рода партнера по формированию мировой политической жизни. Все остальные лидеры первых десятилетий XX века — клемансо, чемберлены, вильсоны, черчилли, рузвельты, — могли вести мир лишь к бессмысленной для человечества войне. Они мир к ней и вели. И привели… И только Сталин, если бы он сумел подчинить Гитлера не себе, а действительно глобальным и созидательным целям, смог бы вместе с Гитлером вначале отвести мир от бессмысленной войны, а затем — через справедливую войну — привести мир к вечному миру! Да, Сталин мог, но не догадывался об этом. И так и не догадался. А может, догадался, но не успел претворить догадку в действие… Увы… История измеряется эпохами, жизнь человека — днями и годами. Порой — минутами и мгновениями. Но чем ближе к двадцатому веку, тем чаще сравниваются исторический и человеческий счет. Шальное австрийское ядро в Италии — и нет империи Наполеона. Эпоха крупных европейских войн состоялась бы и без генерала Бонапарта, но это была бы, все же, уже иная эпоха. Еще крепче связывается личностное и эпохальное с наступлением двадцатого века… Ломается лед Финского залива под Лениным — и нет Октября. Случайный осколок французского снаряда в висок полкового связного Гитлера — и нет Третьего рейха. Меткая белогвардейская пуля под Царицыном — и нет Сталина, которому предстоит принять Россию нищей, а оставить могущественной. Что ж, мгновения двадцатого (а теперь уже — и двадцать первого) века, действительно, порой летят «как пули у виска»… Но лишь в эпоху Сталина и Гитлера История была готова считать не на века, но и не на мгновения. Три года: 1939, 1940 и 1941-й… Проживи их Сталин и Гитлер иначе, пойди они наличные встречи, и… И эти годы могли бы стать не «звездными» минутами, а «звездными» годами человеческой истории. Не сложилось… Я не удивлюсь, если читатель здесь покачает головой — мол, хватил тут автор, очень уж хватил через край… Но позволю себе заметить, сейчас понятие «виртуальная реальность» более чем модно… Хотя автор отнюдь не склонен следовать здесь за модой. Просто вопрос «Что было бы, если бы…» чаще всего задают люди, способные осмысливать возможную вариантность исторической эпохи на уровне «кухонной» политики. И поэтому ответы и предположения нередко отдают если не профанацией проблемы, то явной легковесностью. Хотя сам по себе вопрос «Что было бы, если бы…» не только интересен, но и корректен… НЕСМОТРЯ на моду на «виртуальность», у большинства профессионалов-историков по сей день считается хорошим тоном утверждать, что история-де «не терпит сослагательного наклонения». «Что было бы, если бы…» — это, мол, не занятие для историка и вообще серьезного человека. Имеет значение только то, что было, то есть — история реальная. Но, как уже сказано, все чаще мы сталкиваемся с понятием «виртуальная реальность». Все чаще появляются романы «виртуальной» истории. Не обходят они и тему Гитлера. Так Роберт Харрис написал бестселлер «Фатерлянд». В нем Берлин 1964 года готовится к празднованию 75-й годовщины фюрера, а двадцать лет назад армия Гитлера выиграла войну. Да, многим заманчиво переписать историю в духе «что было бы, если бы…» именно так… Заманчиво снять на эту тему триллер с Мирандой Ричардсон и Рутгером Хауэром в главных ролях… Вот только историей — даже «виртуальной» — тут и не пахнет. Потому что антиисторичен сам подход. И реальный, и «виртуальный» Гитлер, начав войну против СССР, мог ее только проиграть. Реальный — не забудем, ее и проиграл. Сама же «виртуальная» история — это, в общем-то, особая фантастика. Не всегда безопасная, но почти всегда дешевая. И уже поэтому ей все равно — а был ли хоть один шанс такого развития событий, который описан «новаторами». И «герои» этой «виртуальной» истории действуют так же бездарно и мелко, как и герои истории реальной. Но не только создателям и любителям триллеров, а и вдумчивому ученому не мешало бы посмотреть на прошлое под нетрадиционным углом зрения. Углом не виртуальности, а рациональности. Да, на мой взгляд, уважаемый читатель, можно говорить о трех возможных видах истории общества. Первый вид — это история реальная. Та, что была на самом деле. Увы, и она почти в любой свой реальный момент выглядит до безобразия глупо и бездарно. Второй вид — халтурный. То есть тот, который назвали «виртуальной» историей. Иными словами — это та «история», какой хотел бы ее видеть исторический шарлатан. Ему, как вот Роберту Харрису, нет никакого дела до причин и мотивов, которые действительно могли бы возникнуть, хотя и не возникли. Я же хочу ввести третье понятие истории — рациональной. Для меня это такая, вполне возможная в прошлом история, когда ее главные политические лидеры поступают рациональным образом. То есть не вопреки, а в соответствии со своими и общественными интересами. Реальный Николай II подвел свою страну к краю пропасти, а себя и обожаемую семью — под пулю. Но «рациональный» Николай имел бы шанс не просто сохранить трон — пусть теперь уже и конституционного монарха. Он ведь при этом мог еще и уцелеть — вместе с Алике, Алексеем и великими княжнами. Реальная Польша пилсудчиков рухнула в ту яму, которую вырыла себе сама (впрочем, с помощью Франции и Англии). А «рациональная» Польша могла сохранить и себя, и Варшаву нетронутыми — если бы она позволила летом 1939 года ввести на свою территорию войска СССР. И не было бы никаких освенцимов.