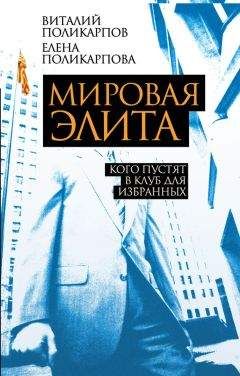Уистан Оден - Чтение. Письмо. Эссе о литературе
Тридцать дней у Сентября,
Августа и Декабря.
Поэзия не волшебство. И если говорить о ее назначении, то им, по правде, будет освобождение от иллюзий и отрезвление.
«Безымянные законодатели мира» — это определение скорее относится к тайной полиции, чем к поэтам.
Катарсис непосредственно связан с церковными церемониями и косвенно — с боем быков, футболом, плохими фильмами, войнами и молодежными слетами, когда десять тысяч девушек представляют национальный флаг. Но только не с поэзией. Не с искусством.
Человечество — как и всегда — настолько ничтожно и развращенно, что если кто-то скажет поэту: «Бога ради, займись чем-нибудь полезным — вскипяти воду, принеси бинты», что он ответит в свою защиту? Но, слава Богу, никто так пока не говорит. Даже неграмотная медсестра твердит поэту: «Ты здесь, чтобы спеть больному песню, после которой он поверит, что я, и только я, способна его вылечить. Если ты не можешь или не хочешь, я отберу твой паспорт и сошлю тебя в рудники». В то время как несчастный больной в горячечном бреду уже кричит поэту: «Спой, спой мне такую песню, чтобы вместо диких кошмаров я видел сладкие сны. И если тебе это удастся, я подарю тебе квартиру в Нью-Йорке или ранчо в Аризоне!»
ЭССЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
РОБЕРТ ФРОСТ
Блаженных Островов, мой сын, внемли
Благословению, хотя благой земли
Не видел я.
Если спросить читателей, кто сказал: «Красота — это Истина, если Красота истинна», — большинство ответит: Ките. Но Ките не говорил ничего подобного. Он просто передал своими словами то, о чем ему поведала греческая ваза, когда он описывал ее — ту, которой уже не грозили насущные заботы наших дней, «сердечная печаль и пресыщенье жизни». Ваза эта, между прочим, помимо иных прекрасных видов, несла изображение высокогорной цитадели — она передавала ее красоту, но не рассказывала о войнах и бедствиях, которые стали причиной возникновения крепости.
Искусство рождается из желания постичь красоту и истину, а также из нашего знания о том, что красота и истина не одно и то же. Кто-то, возможно, станет утверждать, что любое стихотворение основано на соперничестве Просперо и Ариэля; я добавлю — в каждом стихотворении внешне миролюбивое их соседство имеет в основе своей сильное внутреннее напряжение. Греческая ваза — произведение Ариэля, его символ. Что касается Просперо, то его положение лучше всех описал доктор Джонсон: «Единственная цель писателя — дать читателю возможность наиболее полно насладиться жизнью или наиболее стойко ее переносить».
Мы хотим, чтобы стихотворение было прекрасным, чтобы оно было — как бы это сказать? — буквальным раем на земле, вневременным пространством чистых игр, которое тем больше ценишь, чем катастрофичнее наше историческое существование, наши нерешенные проблемы и безвыходные ситуации. С другой стороны, мы ждем от стихотворения некоей истинности, чтобы оно — как бы это сказать? — придавало жизни подобие откровения, показывало ее такой, какая она есть на самом деле, освобождая нас от самовлюбленности и самообмана. В этом случае поэт не может обладать истиной, не допуская в свою собственную поэзию хаотические, уродливые и нездоровые проявления жизни. Несмотря на то, что Ариэль и Просперо способны уживаться в каждом стихотворении, происходит это лишь до известной степени. В остальном каждый из них пытается обогнать другого, поэтому не составляет труда понять, под чьим влиянием — Просперо или Ариэля — написано отдельное стихотворение или чье влияние преобладает в творчестве того или иного поэта в целом.
Солнце горячее, бледное пламя,
мягкий воздушный предел.
Сказочным веером тень мои волосы спрячет
от солнечных стрел.
Солнце, свети, и огонь, полыхай.
Воздух, обвей меня нежно.
Сказочным веером тень моя милая
сладость развеет безбрежно.
Чтобы не быть тебе траурной, тень моя,
Ты от ожогов спаси, моя милая.
Пусть огонь моей красоты
Не разбудит чужой мечты.
Пусть глаза мои не горят:
Мне не нужен чужой наряд.
(Джордж Пиль. «Песнь Вирсавии»)
На перевале, где скала,
Дорога ненароком
Как будто в небо перешла,
Но там, за поворотом
Она — глядишь — уже в лесу,
Где в сумрачном покое
Стволы стоят, как на посту
У вечности, по двое.
Забавно как поет мотор
Мне песню путевую
И сокращает кругозор,
Приблизив даль вплотную.
Но он не сможет этот лес
Мне рассказать и с полуслова
Не передаст мне цвет небес,
Его оттенки голубого.
Оба стихотворения написаны от первого лица: но какая разница между «я» Вирсавии и «я» Фроста! В первом случае «я» остается лишь грамматической формой. Иными словами, нельзя представить себе встречу с Вирсавией где-нибудь на званом обеде. Второе «я» — реальный человек в конкретной ситуации: за рулем автомобиля, который пересекает конкретную местность.
Выбросьте прямую речь Вирсавии — и героиня исчезнет, ведь то, что она говорит, никак не связано с конкретным случаем. Если кто-то захочет узнать, о чем это стихотворение, вряд ли он получит четкий ответ. Скорее нечто туманное: прекрасная девушка (любая прекрасная девушка), едва проснувшись солнечным утром (любым солнечным утром), сквозь сон предается мечтам о собственной красоте со смешанным чувством неги и сладкого ужаса — сладкого, ибо никто не угрожает ее благополучию; окажись поблизости праздный зевака, наша девушка запела бы иначе. Если, наконец, мы попытаемся объяснить себе, в чем обаяние этого (любого подобного ему) стихотворения, нам придется говорить лишь о рифмовке, ассонансах и консонансах, стилистике, цезуре и т. д.
Стихотворение Фроста, напротив, состоялось только благодаря событию, предварившему появление слов; именно событие является причиной стихотворения Фроста, конечная цель которого — мудрость. И хотя элемент блестящей словесной отделки присутствует в нем, — в конце концов, это стихотворение, а не инструкция, — он подчиняется содержанию, которое оформляет.
Если кто-то вдруг попросит меня привести пример хорошей поэзии, первое, что придет мне в голову, будет поэзия в духе Пиля. Но если мои чувства эмоционально окрашены — будь то печаль или восторг, — если в этот момент я подумаю о стихах, созвучных моим чувствам, я, безусловно, вспомню Фроста.
Шекспир говорит нам, что Ариэль бесстрастен. Вот причина его побед и поражений! Ибо земной рай, конечно, место отличное, но там, увы, никогда не происходит ничего сколько-нибудь значительного.
Если Ариэль составит антологию излюбленных стихотворении, в ней, безусловно, окажутся «Эклоги» Вергилия, «Одиночество» Гонгоры и несколько поэтов вроде Кэмпиона, Геррика, Малларме, — но продолжительное чтение подобной антологии очень быстро утомило бы нас однообразием и скудостью ощущений, поскольку второе имя Ариэля — Нарцисс.
Бывает, впрочем, и так, что стихотворение, написанное под влиянием Просперо, становится через пару поколений текстом Ариэля. Кто знает, может быть, колыбельная «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю» была поэтической памяткой некоего предания самого сокровенного свойства. То, что мы приписываем эту песенку Ариэлю, означает, возможно, наше элементарное неведение относительно ее действующих лиц: мы размышляем о «сером волчке» скорее как натуралисты, а не как поэты. С другой стороны, для более полного понимания «Божественной комедии» Данте нам необходима именно конкретная информация о людях, в ней упомянутых.
Часто сам автор не в состоянии определить характер собственного произведения — «Lycidas», например, кажется нам созданием Просперо, поскольку речь в нем идет о самых серьезных вещах — о смерти, скорби, грехах. При ближайшем рассмотрении, однако, я нахожу, что в нарядах Просперо скрывается все тот же Ариэль, нацепивший чужие одежды для собственного развлечения. Поэтому в данном случае вопрос: «Кто таков Пилат Галилейский?» — так же бессмыслен, как вопрос: «Кто таков Иван, родства не помнящий?» И Тот, Кто шел по водам, останется для Ариэля сельским пастухом, чье имя случайно оказалось «Христос». Если читать «Lycidas» под этим углом зрения, — как читаем мы Эдварда Лира, — оно, безусловно, будет одним из самых замечательных произведений, когда-либо написанных на английском. Но если оценивать его с позиций Просперо, придется — вместе с доктором Джонсоном — осудить его за бессвязность мысли и развязный тон там, где читатель готов воспринимать поучения и откровения и где он не получает ни того, ни другого.
Вдохновленному Ариэлем поэту грозит лишь одна серьезная опасность: его стихотворение может оказаться тривиальным. «Зачем было писать стихотворение?» — спросит недоуменный читатель. Поэт, одержимый Просперо, уязвим с разных сторон. Из всех английских поэтов Вордсворт менее остальных был подвержен влиянию Ариэля — менее, чем это необходимо каждому стихотворцу. И что же? Его стихи — это наглядный пример того, когда пером поэта правит один Просперо: взяв наугад цитату из Вордсворта, хочется воскликнуть: «Да он попросту не умеет писать по-английски!» Чего никогда не скажешь об Ариэле. Уж если он пишет, то пишет превосходно. Ошибки Просперо гораздо грубее грамматических или стилистических. Поскольку он желает передать читателю нечто истинное, то в случае неудачи он оказывается в худшем, нежели Ариэль, положении, ибо читатель видит в таком стихотворении фальшь. Он не спрашивает, зачем поэт написал его. Он в сердцах говорит: «Подобным стихам не место на белом свете».