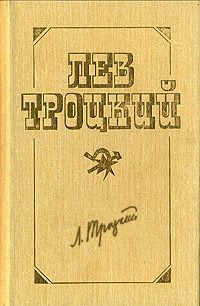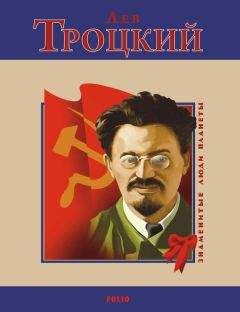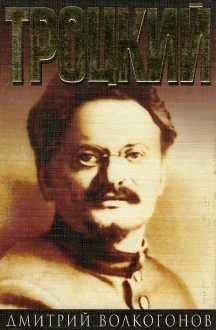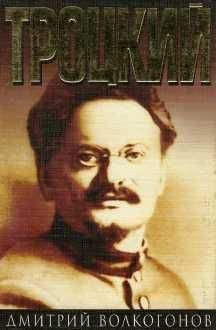Лев Троцкий - Литература и революция. Печатается по изд. 1923 г.
Литература после Октября хотела притвориться, что ничего особенного не произошло и что это вообще ее не касается. Но как-то вышло так, что Октябрь принялся хозяйничать в литературе, сортировать и тасовать ее, — и вовсе не только в административном, а еще в каком-то более глубоком смысле. Значительнейшая часть старой литературы оказалась, и не случайно, за рубежом, — и вот случилось так, что именно в литературном-то отношении эта часть и вышла в тираж. Существует ли Бунин? О Мережковском нельзя сказать, что его не стало, потому что его по существу никогда и не было. Или Куприн? Или Бальмонт? Или сам Чириков? Или, может быть, «Жар-птица», «Сполохи» и прочие издания, наиболее примечательной литературной чертой коих является сохранение твердого знака и буквы ять? Все это сплошь упражнения в книге жалоб на берлинской станции: очень долго не подают лошадей на Москву, и пассажиры выражаются. В провинциальнейших «Сполохах» художественное творчество представлено Немировичем-Данченко, Амфитеатровым, Чириковым, Первухиным и другими штатными покойниками, впрочем едва ли когда серьезно рождавшимися. Некоторые, довольно, впрочем, неявственные признаки жизни обнаруживает Алексей Толстой. Но за это-то он и отлучен от круговой поруки хранителей твердого знака и прочих отставной, с позволения сказать, козы барабанщиков.
Маленький практический урок социологии на тему о том, что нельзя обмануть историю! Ну, хорошо, насилие: земли отняли, фабрики отняли, банковские вклады отобрали, сейфы вскрыли, — а таланты, а идеи? Ведь эти-то невесомые ценности были вывезены заграницу в угрожающем для русской «культуры» и особенно ее достолюбезного псаломщика, М. Горького, размере. Почему же из всего этого ничего не произошло? Почему это эмиграция не может назвать ни одного имени, ни одной книги, на которых стоило бы остановиться? Потому что нельзя обмануть историю и подлинную (не псаломщицкую) культуру. Октябрь вошел в судьбы русского народа как решающее событие, и всему придал свой смысл и свою оценку. Прошлое сразу отошло, поблекло и обвисло, и художественно оживить его можно только ретроспекцией от того же Октября. Кто вне октябрьских перспектив, тот опустошен насквозь и безнадежно. Оттого-то такими свищами ходят мудрецы и поэты, которые с этим «не согласны» или которых это «не касается». Им просто напросто нечего сказать. По этой, а не по иной причине эмигрантской литературы не существует. А на нет и суда нет.
В трупном разложении эмиграции довершился некий полированный тип посвистывающего циника. Все течения и направления вошли к нему в кровь как дурная болезнь, которая иммунизировала его от всякой дальнейшей идейной заразы. Совсем законченно представлен этот тип нестесняющимся г. Ветлугиным. Может быть, кто-нибудь и знает, с чего он начал. Но это несущественно. Его книжки («Третья Россия», «Герои») свидетельствуют о том, что автор читал, видел и слышал разное и всякое и умеет водить по бумаге пером (manier la plume). Он начинает свою книжку почти что с элегии по погибшим тончайшим интеллигентским душам, а кончает одой вороватому мешочнику, какой явится, видите ли, хозяином будущей «Третьей России». И это уже будет настоящая Россия, на страже частной собственности, без поз, но зато богатеющая, беспощадная в жадности. Ветлугин, который был с белыми и отверг их, когда они провалились, предусмотрительно выдвигал свою кандидатуру в идеологи мешочнической России. В смысле определения собственного призвания это было метко. Только вот насчет третьей России… Так или иначе, но в четком стиле безошибочно слышится — увы червонный валет. Первая книжка писалась приблизительно в эпоху кронштадтских событий (1921 г.), и Ветлугин считал, что с Советской Россией покончено. Прошло небольшое число месяцев, расчеты не оправдались, и Ветлугин, если не ошибаемся, обретается ныне в сменовеховцах. Но это все равно; он радикально защищен цинизмом от идейных шатаний, даже от ренегатства. Прибавим еще, что попутно Ветлугин пишет маргариновый роман с наводящим на размышления заглавием: «Записки мерзавца»… И таких немало. Ветлугин лишь поярче. Они лгут даже бескорыстно, просто оттого, что утратили интерес различать правду от лжи. Может быть, они-то и являются подлинным отстоем второй России, которая дожидается третьей.
Полочкой повыше, но и побледнее будет г. Алданов. Он кадетистее и, стало быть, фарисеистее. Алданов принадлежит к тем будто бы умудренным, которые усвоили себе тон высшего скептицизма (не цинизма, о нет!). Отвергая прогресс, эти люди готовы принять ребяческую теорию Вико о повторении исторического круговорота. Нет вообще более суеверных людей, чем скептики. Алдановы не мистики в полном смысле слова, т. е. не имеют своей позитивной мифологии, но политический скептицизм создает для них повод рассматривать все политические явления под углом зрения вечности; это способствует особому стилю, с благороднейшей картавостью.
Алдановы почти что всерьез принимают свое величайшее превосходство над революционерами вообще, коммунистами в особенности. Им кажется, что мы не понимаем того, что они понимают, революция представляется им результатом того, что не вся интеллигенция прошла ту школу политического скептицизма и литературного стиля, которые составляют духовный капитал Алдановых.[1]
На эмигрантском досуге они пересчитали формальные и фактические противоречия в речах и заявлениях советских деятелей (а мыслимо ли без противоречий?), неправильно построенные фразы в передовицах «Правды» (а таких фраз, надо признаться, немало), — и в результате слово «глупость» (наша) в противопоставлении уму (ихнему) так и пестрит на написанных ими страницах. Правда, историю они проморгали, ничего не предвидели, власть утеряли, с нею и капиталы, но это объясняется уже разными причинами и главным образом — entre nous — хамским характером русского народа. Но превыше всего Алдановы считают себя стилистами — уже по тому одному, что превозмогли рыхлую фразу Милюкова и нагло-адвокатскую — Гессена. Стиль их, кокетливо-простой, без ударений и характера, как нельзя лучше приспособлен для литературного обихода людей, которым нечего сказать. Самодовлеющая манера разговора, независимо от материи его, эта светскость ума и стиля, какой недоставало нашей старой интеллигенции, вырабатывалась уже в межреволюционный период (1907–1914 гг.). А теперь дополнительно кое-что подсмотрели в Европе и пишут книжки: иронизируют, вспоминают, притворяются чуть-чуть зевающими, но из вежливости подавляющими зевок, цитируют на разных языках, делают скептические предсказания и тут же опровергают. Сперва это кажется занятным, потом скучным, под конец омерзительным. Шарлатанство бессильной фразы, книжное фланерство, духовное лакейство!
А лучше всего общие настроения Ветлугиных, Алдановых и прочих в любезной стихотворной форме выразил некий пребывающий в Париже дон Аминадо: И кто порукою, что верен идеал? Что станет человечеству привольно?! Где мера сущего?! Грядите, генерал!.. На десять лет! И мне, и вам — довольно!
Как видим, испанец не горд. «Грядите, генерал!» Генералы-то (и даже адмирал) грянули. Вот только разве что не дошли…
* * *И по ею сторону границ осталось немалое количество дооктябрьских писателей, родственных потусторонним, внутренних эмигрантов революции. Дооктябрьский — это у будущего историка культуры будет звучать так же тяжеловесно, как у нас «средневековый» в противовес новой истории. Октябрь совершенно всерьез показался большинству принципиальных сторонников дооктябрьской культуры нашествием гуннов, от которых нужно уходить в катакомбы с так называемыми «светильниками знанья и веры». Однако эти укрывшиеся и отгородившиеся нового слова не сказали. Правда, «дооктябрьская» или «внеоктябрьская» литература в России значительнее эмигрантской. Но и она сплошь эпигонственна, поражена бледной немощью.
Сколько вышло за этот год стихотворных сборников, — на многих из них звучные имена, на мелких страничках короткие строки, и каждая из них неплоха, и они связаны в стихотворение, где немало искусства и есть даже отголосок когдатошнего чувства, — а все вместе сегодняшнему, пооктябрьскому человеку совершенно и целиком не нужно, как стеклярус — солдату на походе. Как бы увенчанием этой отрешенной литературы, этого тупика вышедших в тираж мыслей и чувств является плотный, прекрасно изданный сборник «Стрелец», где стихи, статьи и письма Сологуба, Розанова, Беленсона, Кузмина, Голлербаха и других напечатаны в количестве трехсот нумерованных экземпляров. Роман из римской жизни, письма об эротическом культе быка Аписа, статья о Софии земной и горней — триста нумерованных книг, — какая безнадежность, какое умирание! Лучше бы проклинали и неистовствовали: все-таки похоже на жизнь.
«И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, неуважающий святынь» (Гиппиус 3., Последние стихи 1914—18 гг.). Это, конечно, не поэзия, но зато какая натуральная публицистика! Стремление декадентски-мистической поэтессы овладеть палкой (в ямбах-с!) — какой неподражаемый кусочек жизни. Когда Гиппиус грозит «народу» своими хлыстами «на века», то тут, конечно, преувеличение, если понимать в том смысле, что проклятия Гиппиус будут в течение столетий потрясать сердца, — но сквозь это вполне извинительное по обстоятельствам преувеличение вы ясно видите натуру: столь томную вчера еще питерскую барыню, столь украшенную талантами, столь либеральную, столь современную, — и вот, и вдруг эта преисполненная собственными утонченностями барыня увидала черную, вопиющую неблагодарность со стороны черни «в гвоздевых сапогах» и оскорбленная в самом своем святом в неистовый бабий визг (хотя и в ямбах) превращает свое бессильное остервекение. И впрямь: если не потрясать, то интересовать будет этот визг, и, пожалуй, через сотню лет историк русской революции укажет пальцем, как гвоздевый сапог наступил на лирический мизинчик питерской барыни, которая немедленно же показала, какая под декадентскимистически-эротически-христианнейшей оболочкой скрывается натуральная собственническая ведьма. И вот этой натуральной ведьмистостью стихи Зинаиды Гиппиус возвышаются над другими, более совершенными, но «нейтральными», то есть мертвыми.