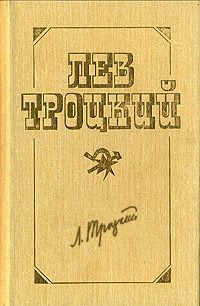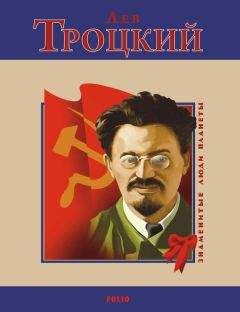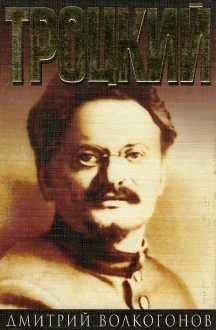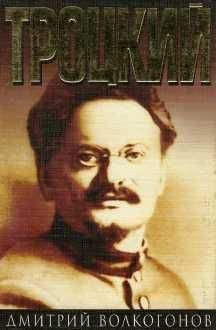Лев Троцкий - Литература и революция. Печатается по изд. 1923 г.
Кадетство же наше, запоздалая имитация либерализма, пыталось снять с истории задаром пенку парламентаризма, культурной обходительности, уравновешенного искусства (на твердой базе прибыли и ренты). Подсмотреть европейские стили, индивидуально или в кружковом порядке, продумать их и даже в себя вобрать, чтобы затем в любом из этих стилей обнаружить, что сказать-то собственно и нечего, на такое хватает и Адамовича и Ирецкого и многих иных. Но ведь это не творчество культуры, а только пенкоснимательство.
Когда некий кадетский эстет, совершив большое путешествие в теплушке, потом об этом сквозь зубы рассказывал: как он, образованнейший европеец, с самыми лучшими вставными зубами и дотошным знанием балетной техники у египтян, был доведен хамской революцией до необходимости путешествовать со вшивыми мешочниками, — то у вас к горлу подвинчивало чувство физического отвращения к вставным зубам, балетной эстетике, вообще ко всей этой накраденной по европейским прилавкам культурности, и возникало твердое убеждение, что самая последняя по счету вошь самого оголтелого мешочника в механике истории значительнее и, так сказать, необходимее этого насквозь прокультуренного и по всем радиусам бесплодного себялюбца.
В довоенную эпоху, т. е. прежде, чем культурные пенкосниматели встали на четвереньки и патриотически завыли, у нас стал вырабатываться газетный стиль. Правда, Милюков все еще пространно мямлил и вавилонил профессорско-думские передовицы, а его соредактор Гессен сервировал самые лучшие образцы бракоразводного процесса. Но, в общем, отучались все-таки от традиционной отечественной разляпанности на почтенном постном масле «Русских Ведомостей». Этот маленький газетно-стилистический прогресс под Европу (оплаченный, к слову сказать, кровью 1905 г., от коей пошли партии и Дума) как бы бесследно утонул в волнах революции 1917 г. Зарубежные ныне кадеты, бракоразводные и иные, с величайшим злорадством указывают на литературную слабость советской печати. И действительно, пишем мы, в общем, плоховато, бесстильно, подражательно, даже под «Русские Ведомости». Стало быть, регресс? Нет, только переход от пенкоснимательской подделки прогресса, от наемно-адвокатской дешевки, к величайшей культурной продвижке вперед целого народа, который — дайте чуть-чуть сроку! — создаст себе свой стиль и для газет, и для всего другого…
И еще об одной категории: rallies. Это термин из французской политики и означает присоединившихся. Так назвали бывших роялистов, примирившихся с республикой. Они отказались от борьбы за короля, даже от надежд на него и лояльно перевели свой роялизм на республиканский язык. Вряд ли кто-нибудь из них написал бы Марсельезу, даже если б она не была написана раньше. Сомнительно также, чтоб они с энтузиазмом пели ее строфы против тиранов. Но присоединившиеся живут и дают жить другим. Таких rallies немало среди нынешних поэтов, художников, актеров… Они не клевещут, не проклинают, наоборот, приемлют, но, так сказать, в общих чертах и «не беря на себя ответственности», — где следует, дипломатично молчат или лояльно обходят, а в общем претерпевают и принимают, что называется, посильное участие. Это не сменовеховцы собственно — там все же своя идеология, — а просто замиренные обыватели от искусства, зауряд-службисты, иногда не бездарные. Таких rallies мы находим всюду, даже в портретной живописи: пишут «советские» портреты, и пишут иногда большие художники. Опыт, техника — все налицо, только вот портреты непохожи. Почему бы? Потому что у художника нет внутреннего интереса к тому, кого он пишет, нет духовного сродства и «изображает» он русского или немецкого большевика, как писал в академии графин или брюкву, а пожалуй, и того нейтральнее.
Имен называть не к чему, ибо это целый слой. Присоединившиеся ни Полярной звезды с неба не снимут, ни беззвучного пороха не выдумают. Но они полезны, необходимы — пойдут навозом под новую культуру. А это вовсе не так мало.
* * *Выхолощенность нынешнего внеоктябрьского искусства очень видна на судьбе интеллигентских религиозных исканий и находок, которые «оплодотворяли» господствовавшее течение дореволюционной литературы, символизм. Несколько слов об этом здесь сказать необходимо.
От материализма и «позитивизма», отчасти даже от марксизма — через критическую философию (кантианство) — интеллигенция с начала столетия передвигалась к мистицизму. В межреволюционные годы «новое религиозное сознание» мигало и чадило многими подслеповатыми огнями. Между тем сейчас, когда сдвинулась серьезно с места глыба официального православия, комнатные мистики, чудившие каждый на свой лад, поджали хвосты: эти масштабы не по ним. Без содействия салонных пророков и журнальных святош из бывших марксистов, наоборот, при посильном их противодействии, волны революционного прибоя докатились до стен русской церкви, которая не знала реформации. Она оборонялась от истории жесткой неподвижностью форм, автоматической обрядностью и государственной силой. Сама она пред царским государством склонялась нижайше — и почти неизменною продержалась на несколько лет дольше своего самодержавного союзника и покровителя. Но очередь дошла и до нее. Обновленческое, сменовеховское направление в церкви есть запоздалая попытка бюрократизированной заранее буржуазной реформации под покровом приспособления к советскому государству. Политическая революция наша совершилась — да и то против воли буржуазии — всего за несколько месяцев до революции рабочего класса. Реформация церкви открылась лишь через четыре года после пролетарского переворота. Если «живая церковь» освящает социальную революцию, то это только в поисках покровительственной окраски. Пролетарской церкви не может быть. Церковная реформация преследует, по существу, буржуазные цели: освобождение церкви от средневековой сословной громоздкости, замену мимического ритуала и шаманства более индивидуализированным отношением к небесным чинам, словом, придание религии и церкви большей гибкости и приспособляемости. В первые четыре года церковь ограждала себя от пролетарской революции угрюмым оборонительным консерватизмом. Теперь она переходит на нэп. Если советский нэп есть сочетание социалистического хозяйства с капиталистическим, то нэп церковный есть буржуазная прививка к феодальному стволу. Признание диктатуры трудящихся диктуется, как сказано, законом мимичности.
Но раскачка векового здания церкви началась. Слева — у «живой церкви» есть свое левое крыло — поднимаются более радикальные голоса. Еще левее — радикальные секты. Наивный, только пробуждающийся рационализм взрыхляет почву для атеистических и материалистических семян. Настала эпоха больших потрясений и обвалов в этом царстве, которое объявляло себя не от мира сего. Где же «новое религиозное сознание»? Где пророки и реформаторы из питерских и московских литературных салонов и кружков? Где антропософия? Ни слуху ни духу… Бедные мистические гомеопаты чувствуют себя, как выкинутые на льдину комнатные коты в половодье. Похмелье первой революции породило их «новое религиозное сознание», вторая революция растоптала его.
Г. Бердяев, например, все еще обвиняет тех, кто не верит в бога и не заботится о загробной жизни, в буржуазности. Разве не потеха? Недолгое социал-демократическое прошлое оставило в распоряжении этого писателя словцо «буржуазность», которым он ныне и отбивается от советского антихриста. Беда-то, однако, в том, что русские рабочие не верят ни в чох, ни в сон, а буржуазия стала сплошь верующей — после того, как лишилась достояния. В том-то и состоит одно из многих неудобств революции, что она до последней степени обнажает социальные корни идеологии.
Так «новое религиозное сознание» и сошло на нет, весьма наследив, однако, в литературе. Целое поколение поэтов, принявших революцию 1905 года за ночь Ивана Купалы и ожегших деликатные крылья на ее костре, ввело небесную иерархию в свои ритмы. К ним примыкала межреволюционная молодежь. Но так как поэты, в силу дурной традиции, и раньше обращались в затруднительных обстоятельствах к нимфам, Пану, Марсу и Венере, то под углом поэтической формы тут совершилась только национализация Олимпа. В конце концов Марс или святой Егорий — это смотря по тому: хорей или ямб. Но несомненно, что у многих, по крайней мере у некоторых, под этим скрывались свои переживания, — какие? — главным образом испуга. Потом пришла война, которая испуг интеллигенции растворила в общей горячечной тревоге. Затем явилась революция, которая испуг сгустила до паники. Чего ждать? К кому обратиться? К чему притулиться? Кроме святцев, ничего не оставалось. Разбалтывать новорелигиозную жидкость, дистиллировавшуюся до войны в бердяевских и иных аптечках, сейчас охотников немного: у кого мистические позывы, тот просто осеняет себя праотческим крестом. Революция стерла и смыла индивидуальную татуировку, вскрыв традиционное, родовое, воспринятое с молоком кормилицы и не разложенное критической мыслью по причине ее слабости и малодушия. В стихах почти безотлучно водворяется Христос. Самой ходкой тканью поэзии — в век машинизированной текстильной индустрии — становится богородицын плат.