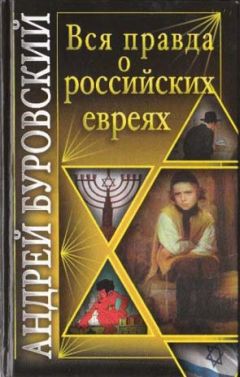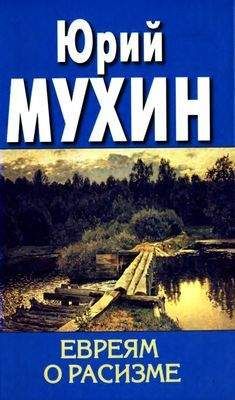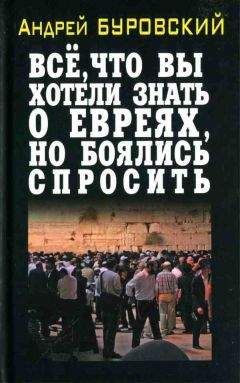Андрей Буровский - Вся правда о российских евреях
Слова матери — ржавой русской «кулачки» — это все «…постылые,/ Скудные слова», но зато вопреки материнской ржавчине:
Не погибла молодость,
Молодость жива!
Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На Кронштадский лед.
Ну и, конечно же, то, без чего Багрицкий не был Багрицким:
Возникай содружество
Ворона с бойцом —
Укрепляйся мужество
Кровью и свинцом.
Чтобы земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла
Комментировать этот призыв к человеческим жертвоприношениям не хочется. Но и в других работах Э.Г. Багрицкого много примеров отвращения к человеку, сиюминутной готовности убивать. Отвращения к любому человеку, не бегущему опрометью от презренного «быта», не входящего в орден «своих».
Тогда же Багрицкий осчастливил человечество поэмой «Человек предместья»; в центре поэмы — эдакий полупролетарий-полукрестьянин, полуслужащий... в общем, стрелочник и проводник на железной дороге. Наверное, эта промежуточность положения должна вызвать у интеллигента первого поколения какой-то интерес, особенное понимание, потому что сам такой. Но куда там!
На голенастых ногах ухваты,
Колоды для пчел — замыкали круг,
А он переминался, узловатый,
С большими сизыми кистями рук.
То ли дело — романтика Гражданской войны, душевные терзания порочного подростка от кулаков «ржавых евреев», от невозможности любить перемазанную селедкой девицу! А этот паршивый недобиток из предместья вот что делает:
Недаром учили: клади на плечи,
За пазуху суй — к себе таща,
В закут овечий,
В дом человечий.
В капустную благодать борща.
То он, понимаешь, столярничает, то, видишь ли, пчел тут разводит (нет бы, разводить чекистов или коммунаров), то корове сено косит... Страшный тип! А его жена еще и пытается молоко продавать:
Жена расставляет отряды крынок:
Туда — в больницу. Сюда — на рынок.
И:
Весь ее мир — дрожжевой, густой,
Спит и сопит, молоком насытясь,
Жидкий навоз, под навозом ситец,
Пущенный в бабочку с запятой.
В общем, совершеннейший ужас! Всякий раз, найдя у Багрицкого какое-нибудь по-человечески понятное удовольствие при виде «струганного крыльца» или «промытых содой и щелоком половиц», страшно удивляешься: ведь наряду с удовольствием видеть эти приметы нормальной жизни в нем живет устойчивая ненависть как раз к тем, кто эти вещи делает и поддерживает, что называется, в рабочем состоянии.
И проклятый «быт» превращается прямо-таки в чудовище, в монстра, которого необходимо уничтожить, пока он тебя самого не сожрал.
Тот же мотив бегства, отвращения к жизни — в целом ряде произведений Багрицкого. Юношеский максимализм? Но в 1930 году, когда писалось «Происхождение», Багрицкому исполнилось 35 лет. В год выхода «Смерти пионерки» — 37. Не дряхлость, конечно, но ведь и никак не юноша.
Если человек проклял свое прошлое, отрекся от «быта» — то есть от своей семьи, своего народа,— ясное дело, и не остается у него в жизни ничего, кроме служения своей безумной идее, и нужно идти до конца:
Оглянешься — а кругом враги;
Руки протянешь — нет друзей;
Но если он [век] скажет:
«Солги!» — солги.
Но если он скажет «Убей!» — убей.
Все остальное человечество, кроме нескольких тысяч тебе подобных, не разделяет веры в коллективную утопию... и закономерно появляется невероятная любовь к палачам, атрибутам пыточного ремесла, восхваления чекистов и комиссаров. Багрицкий доходит до какого-то садистского упоения в своем достаточно известном:
Враги приходили — на тот же стул
Садились и рушились в пустоту.
Их нежные кости сосала грязь,
Над ними захлопывались рвы,
И подпись под приговором вилась,
Как кровь из простреленной головы.
А над поэмой «Февраль» он работал до самого конца, до смерти в 1934 году, и представляет собой эта поэма своего рода поэтическое завещание.
Поэма длинная, приводить большие куски из нее я не буду. Желающие могут сами насладиться этим наглядным пособием к Фрейду. Герой этой поэмы, скорее всего, автобиографическая персона, — довольно жалкое создание. Дурной, неприкаянный мальчишка, совершенно лишенный любых культурных или интеллектуальных интересов, и мечтает он лишь об одном:
О птицах с нерусскими именами,
О людях неизвестной планеты,
О мире, в котором играют в теннис,
Пьют оранжад и целуют женщин.
Мир в духе героев «Золотого теленка» или героев Джека Лондона! И этот бедолага, отягощенный тяготами жизни, военной службы, страдающий от неразделенной любви к прохожей гимназистке, доживает до «Февраля» — Февральской революции 1917 года, своего звездного часа. Тут-то он, этот жалкий и довольно-таки противный дохлик мгновенно становится помощником комиссара, появляется везде с собственной гвардией из матросов. Теперь с ним не шути!
Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа...
Я много дал бы, чтобы мой пращур
В длиннополом халате и в лисьей шапке,
Из-под которой седой спиралью
Спадают пейсы, и перхоть тучей
Взлетает над бородой квадратной...
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне,
Над летящими фарами и штыками...
Поэма кончается тем, что хилый, порочный шибздик, превратившийся в карающий меч революции, обнаруживает в тайном публичном доме девушку, по которой вздыхал всю юность. Теперь она стала проституткой. «Что, узнали?! Сколько вам дать за сеанс?» И несмотря на тихое, безнадежное «Пощади...» насилует девицу, не снимая гимнастерки и сапог.
Я беру тебя за то, что робок
Был мой век, за то, что я застенчив,
За позор моих бездомных предков.
Я беру тебя, как мщенье миру...
Может быть, мое ночное семя
Оплодотворит твою пустыню.
Я почитал немного именно Багрицкого ровно по двум причинам...
Во-первых, поэт он, несомненно, талантливый. Человек, родивший строки «Фазан взорвался, как фейерверк», у которого «Крестьянские лошади мнут полынь//Растущую из сердец», право же, никак не безнадежен.
Во-вторых, он широко известен. Некоторые его перлы — хотя бы насчет века, приказывающего лгать и убивать, или восторженные вопли про кронштадтский лед достаточно знакомы читающему человечеству.
А сама позиция — типичная. Ведь в главном точно таковы же и остальные советские поэты той эпохи: Светлов, который на самом деле Шейнкман, и Антокольский, и Луговской, и Уткин, и Жаров, и Голодный, и Алтаузен, и Безыменский. Как сказал граф Алексей Толстой: «Их много, очень много // припомнить всех нельзя // Но все одной дорогой // Летят они, скользя».
Павел Коган — человек уже другого поколения, но и в его столь знаменитой «Бригантине» таятся те же самые ценности:
Надоело говорить и спорить,
И смотреть в усталые глаза.
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса.
Капитан, обветренный, как скалы,
Вышел в море, не дождавшись дня.
На прощанье поднимай бокалы
Золотого, терпкого вина.
Пьем за яростных, за непокорных,
За презревших грошевой уют.
Бьется по ветру «Веселый Роджер»,
Люди Флинта песенки поют.
Текст откровенно восходит к знаменитому «Острову сокровищ» Стивенсона — это ведь только у него есть герой с именем Флинт, а история не знает такого пирата.