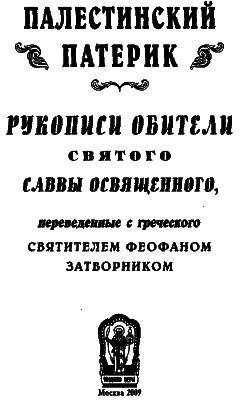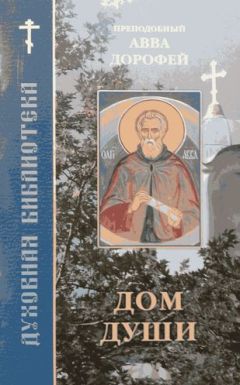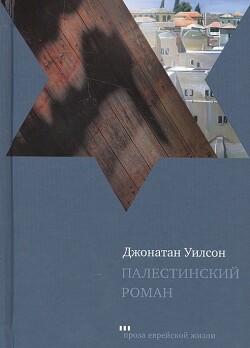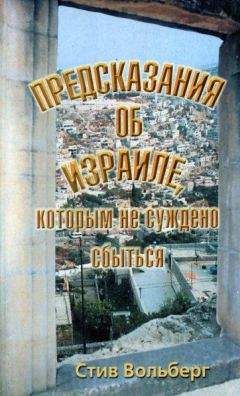Израильско-палестинский конфликт. Непримиримые версии истории - Каплан Нил
Те, кто прокладывает путь к миру и согласию, стремятся помочь участникам переговоров, лидерам общественного мнения и политическим руководителям обеих сторон эволюционировать в своем мышлении до того уровня, когда они смогут вступить в такой открытый разговор о взаимных страхах и конфликтующих нарративах. Но добиться этих перемен будет нелегко, поскольку они потребуют очень непростого (а для некоторых немыслимого) пересмотра базовых убеждений. Согласиться с обоснованностью важных компонентов нарратива противника означает допустить крайне тревожную мысль, что твои собственные права и привилегии могут вдруг оказаться не такими законными, как виделось ранее. Это подразумевает принятие вины и ответственности за ущерб, нанесенный другой стороне, за несправедливость по отношению к ней, разрушение укоренившейся за поколения веры, что твоя сторона была безвинной жертвой другой.
К несчастью, ни исторический опыт, ни нынешние настроения не позволяют надеяться, что стороны переступят через свою одержимость претензией на роль единственной жертвы или что они хоть сколько-то близки к признанию своей доли ответственности за совершенные в прошлом ошибки или причиненные друг другу несчастья. Тем не менее будущие миротворцы, вероятно, продолжат прилагать усилия к прояснению и уточнению причин, заставляющих каждую из сторон считать себя жертвой, приветствуя, например, призывы к сопереживанию и самоанализу, подобные смелому обращению Галии Голан к соотечественникам: «Мы, израильтяне, должны признать свою причастность к изгнанию палестинцев в 1948 г. и его символическое значение для сегодняшних палестинцев. Это может причинить боль, но это нас не убьет» [630]. Некоторые критики могут не согласиться с этим заявлением, указав, что такое признание страданий палестинцев, какова бы ни была его символическая ценность, даст им право требовать возмещения ущерба, начиная с возвращения и/или компенсации перемещенным лицам — что возвращает нас к клубку неснимаемых основных противоречий. Другие критики могут в принципе сомневаться, что изменения в установках способны как-то повлиять на поведение людей на местах в этом напряженном, асимметричном и всегда потенциально взрывоопасном конфликте.
Почти невозможно представить, чтобы люди, вовлеченные в этот конфликт, совершили непростой когнитивный скачок, описанный в нашем воображаемом диалоге. Вероятно, наиболее реалистичной целью для миротворцев будет найти способы снизить уровень напряженности и насилия на местах на длительный период — что стало бы, как отмечалось ранее, не более чем «перемирием», — продолжая при этом попытки точно определить минимальные требуемые от сторон шаги, которые обеспечили бы их более стабильное сосуществование. Некоторым читателям этого может показаться мало. Но с точки зрения реального опыта многих жителей Израиля/Палестины это будет огромным достижением. Это стало бы долгожданной альтернативой периодически повторяющейся в истории последовательности событий, состоящей из вспышек жестокости, вооруженных столкновений и эскалации насилия — насилия, не способствующего ни справедливости, ни безопасности, которых так отчаянно жаждут столь многие палестинцы и израильтяне.
Перейдем от непосредственных участников конфликта к «некомбатантам», сторонним наблюдателям, которые сами участия в борьбе не принимают, но стремятся лучше понять суть израильско-палестинского конфликта. Получить представление об оспариваемых вопросах и конкурирующих нарративах сторон — значит познакомиться лишь с одним измерением задачи, с которой мы сталкиваемся, пытаясь разобраться в этом споре. То, как мы формулируем или анализируем эти вопросы, может либо благоприятствовать нашим усилиям, либо мешать им. Кроме того, как мы видели в главах 2 и 12, существует целый ряд аспектов, которые ученые и другие наблюдатели добавляют — часто с печальными последствиями — к и без того непрерывно оспариваемым версиям истории. Вместо того чтобы прояснять картину, эти дополнительные аспекты зачастую лишь искажают ее и вносят новую путаницу, еще сильнее затрудняя нам задачу понимания конфликта.
Ниже приводится краткий перечень рекомендаций, объясняющий, чего следует избегать, если мы хотим с максимальной пользой заострить внимание на оспариваемых версиях истории арабов, израильтян и палестинцев, чтобы лучше понять их неразрешенный конфликт.
1. Не тратьте силы на попытки победить в спорах, в которых невозможно победить
Учитывая и отражая реализм и пессимизм, которые демонстрируют сами стороны, мы, изучив истоки и эволюцию современного арабо-израильского конфликта в главах с 3-й по 11-ю, выделили ряд неразрешенных, а иногда и тесно увязанных противоречий между сторонами. И хотя читатели вольны рассуждать, можно ли было не завязнуть в них, если бы имевшиеся возможности использовались, а не упускались (см. следующий подраздел «Не используйте подход упущенных возможностей в качестве инструмента перекладывания вины»), я считаю, что бóльшая часть из одиннадцати обозначенных в этой книге основных противоречий по сути своей неразрешима — как практически, на местах, так и теоретически, на уровне дебатов и дискуссий.
Учитывая, что каждая из сторон упорно считает себя единственной праведной жертвой, ни одна из них не может согласиться с позицией другой. Даже если прибегать к самым искусным, красноречивым и страстным аргументам, ни у одной из них нет ни малейшего шанса убедить другую изменить свое мнение. В этих спорах нельзя победить, потому что любое перечисление верных фактов или иное толкование тех фактов, что вы считаете неверными, порочными или упущенными, обычно не оказывает никакого влияния на оппонента; стороны просто не могут выйти из этого тупика.
Я вовсе не предлагаю самим сторонам отказаться от этих споров только потому, что победить в них невозможно. Скорее, я рекомендую тем, кто желает по-настоящему понять суть конфликта, не тратить время и силы на попытки доказать правоту или неправоту той или иной стороны, а ограничиться внимательным анализом позиций, которые они так страстно отстаивают при обсуждении основных противоречий. Хотя изучение всех аспектов этих спорных вопросов всегда полезно, а в некоторых случаях и необходимо, исследования, цель которых — разрешить эти противоречия или победить в этих дискуссиях, могут казаться плодотворными, но в итоге не приносят никакой пользы.
2. Не используйте подход упущенных возможностей в качестве инструмента перекладывания вины
Как было показано в главе 12, тщательный контрфактический анализ позволяет многое узнать о сторонах конфликта и о его развитии. Следует, однако, остерегаться соблазна прибегнуть к упрощенным объяснениям, рассуждая о том, почему мира (или победы) добиться не удалось. Никакой пользы — если не считать таковой опыт участия в дискуссии или продвижение интересов избранной стороны — нельзя извлечь, если тратить драгоценное исследовательское время и энергию на попытки доказать, что в некой упущенной возможности для достижения мира виноваты палестинцы, или арабы, или израильтяне, или какой-то конкретный лидер.
Однако реалистичный анализ и глубокое понимание вероятно упущенных возможностей могут оказаться полезными для выяснения того, что в прошлом пошло не так. Для достижения наилучших результатов исследование не должно быть продиктовано актуальной повесткой. Каждый случай должен изучаться с использованием всего спектра доступных источников и в соответствии со строгой научной методологией. Такой исторический анализ, в свою очередь, может дать толчок продуктивным дискуссиям о том, стоит ли принимать или отвергать современные предложения о мире; в некоторых случаях знание об упущенных в прошлом возможностях может быть полезно людям, принимающим решения сегодня, когда они стоят на собственных стратегических развилках.