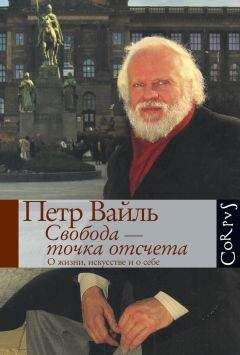Марина Цветаева - Рецензии на произведения Марины Цветаевой
Н. Резникова
Рец.: «Современные записки», книга 55
<Отрывки>{169}
<…> Именно в последнее время, когда так тоскуешь по хорошей, умной книге, — «Современные записки» ждешь особенно нетерпеливо и относишься к ним с особенно ревнивой тревогой: «только бы „Записки“ остались на должной высоте, только бы дали ту пищу уму и сердцу, о которой так тоскуешь!..»
К счастью, и 55-я книжка «Современных записок» не разочаровывает. <…>
М.Цветаева снова подарила читателям одно из своих воспоминаний, как-то по-особенному ценных талантом не только ума, но и сердца, — «Пленный дух» (о встрече с Андреем Белым).
Об этой статье М.Цветаевой можно говорить или очень много, или почти ничего. Хвалить ее нет слов. Слишком в ней много поднято вопросов, слишком живым представляется Андрей Белый, слишком мучительной, какой-то нечеловечески мучительной видится его судьба, его одиночество, с изумительной чуткостью понятое умным женским сердцем. <…>
А. Бем
Письма о литературе
Соблазн простоты{170}
В многочисленных статьях о кризисе поэзии меня задевает не столько само существо вопроса, сколько некоторые попутные высказывания. Задевают, потому что, на мой взгляд, ведут к смешению понятий и сбивают с правильного пути тех, кто склонен еще к критике прислушиваться. Главным образом я имею в виду призыв к простоте в поэзии.
Из чего этот призыв вытекает? Поэзия, по мнению наших пессимистов, формально исчерпала себя. В области формы все испробовано; на этом пути нельзя ждать новых успехов. Остается другой путь — выявление в поэзии ее содержания. «Чтобы выявить содержание, внимание художника должно быть направлено прежде всего на само содержание. Форма явится как следствие. Один из лучших способов усовершенствовать форму — забыть о ней», говорит, напр., К.Гершельман в симптоматичной статье в № 6 сборника «Новь».[558]
Не имеет здесь смысла сейчас вскрывать всю зыбкость советов автора. Говорить о соотношении формы и содержания, вопросе очень специальном и запутанном, попутно невозможно. Неизбежно получится «любительство». Положение о слитности формы и содержания сейчас настолько прочно вошло в эстетику, что спорить об этом излишне. Да и сам К.Гершельман теоретически это признает, хотя практически советует обратное. Никак нельзя «забыть о форме», как нельзя «помнить о содержании», если, конечно, имеешь дело с художественным произведением. Совет этот впустую. А по существу в нем скрыто очень опасное место. Под другим соусом нас вновь толкают в сторону утилитарной поэзии, в сторону «служения» поэзии каким-то вне ее стоящим целям. А так как эти цели к тому же «с куриное яйцо», весьма скромные и «интимные», то поэзия рискует действительно зайти в тупик. «Эмиграция — должна сказать свое слово», это звучит сильно. Но когда это требование сводится к тому, что новое слово есть «интимность», т. е. «интимные переживания», пусть даже и таких проблем, как смерть и т. п., то «свое слово» становится уж не столь заманчивым. Поэзию призывают к повороту «от экспериментализма к интимности», от нее требуют, чтобы она выработала «новую форму, обеспечивающую ей максимальную насыщенность содержания при максимальном лаконизме формы». «Лаконизм формы», который почему-то должен обеспечить «максимальное содержание», понимается обычно как «простота», отказ от поэтической усложненности. Как пример такого поворота К.Гершельман приводит поэзию участников «Чисел». С еще большим правом я мог бы указать на подбор стихов в последней книжке «Современных записок». С легкой руки Г.Иванова такой поворот в эмигрантской поэзии, особенно у парижских поэтов, в последнее время действительно заметен. Но «простота» ли это?
У Георг. Иванова, во всяком случае, не простота. О стихах Георг. Иванова в его «Розах» можно с таким же правом сказать, что они до конца сделаны, как и стихи, хотя бы Map. Цветаевой, которую склонны в этой «деланности» упрекать. В них имеется именно то, что покойный Андр. Белый в своей книге о Гоголе назвал «формосодержанием».[559] Простота здесь предопределена не «интимностью» содержания, а она сама до известной меры эту интимность предопределяет. Или вернее — простота здесь не дана, а задана.
Так и надо. Голову на грудь
Под блаженный шорох моря или сада.
Так и надо — навсегда уснуть,
Больше ничего не надо.[560]
Ничего простого в этих строках нет. Простота обманна, она так же «формальна», как и сложность Цветаевой.
Наблюдательный критик Глеб Струве в свое время (см. «Россия и славянство», 17 окт. 1931 г.) эту «нарочитость» поэзии Г.Иванова правильно отметил. Среди особенностей цикла «Роз» он выделил: «нарочито скупой, однообразный словарь, монотонную повторяющуюся строфику, эллиптическую недоговоренность синтаксиса… вполне сознательную, а отнюдь не свидетельствующую о какой-либо небрежности».
Мы забываем, что по своему словарю, по подбору словесного материла Map. Цветаева, в сущности, тоже очень проста. Что может быть проще!
Как бедный шут о злом своем уродстве,
Я повествую о своем сиротстве…[561]
Сложен ход ее поэтической мысли. Но сложность его в том, что он именно прост, не усложнен мостиками логической последовательности, которая задерживает поэтический ход восприятия. Поэзия Цветаевой — «вздох и выдох», поэтическое дыхание, заразительное, как зевота. Начинаешь дышать ее воздухом, от прерывистости ее дыхания по-иному воспринимаешь мир. Через форму или вместе с формой начинаешь не только учащеннее дышать, но и волноваться ее волнением, мыслить ее логическими ходами. Сложность — здесь тоже обман — он вызван тем, что не успеваешь, не поспеваешь за поэтической напряженностью ее стиха.
И наконец, в чем сложность Бор. Пастернака? Нельзя понять поэта, нельзя судить о нем, пока не попадешь в его колею. Сложен Бор. Пастернак «ненаезженностью» колеи своей. Попасть в нее спервоначалу очень трудно. Даже больше — есть что-то в нас, что заставляет этой колеи сторониться, сворачивать на проезжую дорогу поэтического большака. Но тому, кто преодолеет эту своеобразную поэтическую лень, кто не побоится тряски по кочкам и провалам, тому откроется внезапно еще невиданный мир поэзии. Если у Цветаевой — ритм формообразующ, то у Бор. Пастернака — не могу найти другого слова — это «сквозняк», насквозь пронизывающий его стихи. С места сорваны в порядке сложенные листы бумаги на письменном столе, перепутались страницы — так смешались слова в необычном членении его синтаксиса. Сдвинуты вещи и вместо привычной логики создана своя — по-новому убедительная логика его образов. И опять — ничего сложного в словаре, никаких особых мудрствований.
Простота, на мой взгляд, только там, где нет «формосодержания», а есть — или форма, или содержание. Очень «прост» в своей поэзии А.Штейгер.[562] Но прост не «простотой», а тем, что за этой простотой ничего нет. Это голая форма простоты и пустоты. Подкупающе «просто» звучат стихи Л.Червинской,[563] но в них больше человеческого, чем поэтического. Но так же «прост» и Юрий Иваск в своем «Понте» («Новь», № 6), усвоивший «сложности» Map. Цветаевой. И здесь — одна оболочка поэзии. Живого ее дыхания — нет.
И все же мне хочется отметить одну черту, пожалуй, объединяющую, назовем условно, поэтов «Чисел». Это отнюдь не простота, а нечто совершенно иное. Так сразу этого и не объяснишь. Объединяет их, пожалуй, что они хотят своей поэзией больше «сказаться», чем «сказать». Поэзия для них не активный процесс преобразования мира через собственное его постижение, а только «отдушина» для личных переживаний. Поэтому в круг поэтического переживания втянут очень ограниченный мирок самого автора. В этом смысле, если хотите, их поэзия «интимна». Но за этой интимностью нет «трагичности», или, вернее, трагедийности, даже когда в ней идет речь о смерти и судьбе. Она размягчает, но не поднимает, в ней больше тоски, чем скорби, больше жалости к себе, чем к другому. Огромный жизненный опыт, редко выпадающий на долю человека, прошел по человеку, а не через него; раздавил, а не преобразил его. Здесь кризис не поэзии, а кризис — поэта. Там, где нечего сказать, а хочется только «сказаться», там высыхает подлинное творчество.
Отсюда и другая особенность: выпадение мира вещей из поэзии. Поэзия преобразует мир. Она взрывает его своим лиризмом. Но, взорванный, он в ней наличествует. Через преобразованный мир вещей познается мир души поэта. Прямой путь к нему не кратчайший путь. Не прямо к душе, а через преобразованное материальное окружение. Надо, чтобы сила поэтического напряжения сдвинула мир с привычного места, подчинила его себе. Когда поэт остается с глазу на глаз со своим внутренним миром, он редко достигает поэтической силы. Здесь успех дается только исключительно избранным. И успех этот обусловлен тем, что этот «внутренний мир» также взорван и смещен лирическим напряжением, т. е. сделан «вещью».