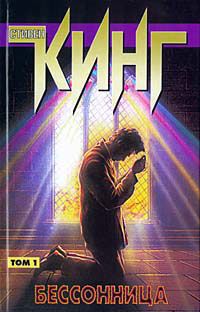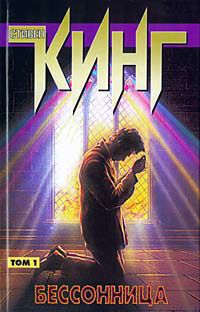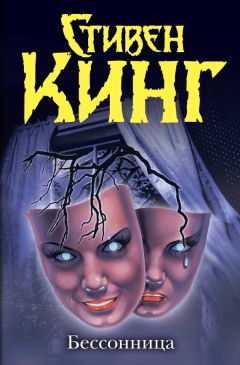Александр Крон - Бессонница
______________
* Ну, сударь! Как дела?
— Молодец! Ты был великолепен.
Я ошалел еще больше.
— Как? Ты меня слушал?
— Конечно.
— Я тебя не видел.
— И не мог видеть.
— Где же ты был? В кинобудке?
— Почти. Современные замки по части тайн не уступают средневековым. А Данила Оскарович здесь свой человек. Он, благодетель, меня и вытащил сюда. Пойдем.
Успенский подтолкнул меня к знакомому "ягуару". За рулем сидел доктор Вагнер. Когда мы с Пашей забрались на заднее сиденье, он сразу тронул машину. Правил он левой рукой, а правую не оборачиваясь протянул мне.
— Примите мои поздравления. Сейчас я завезу вас в гостиницу, чтоб вы могли сменить рубашку, и поедем на банкет.
— Банкет? — Меньше всего мне хотелось быть на людях и говорить по-французски.
— Банкет, поздний обед или ранний ужин, назовите как хотите. Много пить необязательно, но поесть вам надо. У "Андре" хорошо кормят. И вообще нельзя пренебрегать кулуарами.
О банкете, происходившем в общем зале скромного, но дорогого ресторана, у меня осталось смутное воспоминание. Было жарко, шумно и многолюдно. "Андре" — ресторан, куда ездят есть, а не танцевать, столы стоят так тесно, что официантам приходится искусно лавировать. Я не без умысла хотел сесть рядом с Успенским, но устроители банкета позаботились, чтоб мы сидели врозь — на нас был спрос. Меня усадили между юной слависткой m-lle Баруа и милейшим каноником из Дижона, к счастью, во Франции никого не заставляют пить силой, и я не чувствовал неловкости оттого, что по части выпивки уступаю девушке и священнику. Успенский пил много, но был в отличной форме и, как всегда, в центре внимания. Можно было только поражаться, как человек, с грехом пополам изъяснявшийся по-английски и еще хуже по-французски, ухитрялся и здесь вносить в застолье дух праздника, ловить на лету реплики, шутить и мгновенно завоевывать симпатии самых разных людей. Были тосты, в том числе и в нашу честь, отвечал Успенский по-русски, а я переводил, за всю поездку это был первый и единственный случай, когда я выполнял обязанности переводчика.
После мороженого с ранней клубникой встал старый Кемпбелл, за ним поднялись еще несколько человек, и я понял, что могу, не нарушая приличий, незаметно исчезнуть. Но Успенский поймал мое движение.
— Хочешь уходить?
— Если я тебе не нужен.
— У тебя усталый вид. Вот что, — он задумался, — иди в гостиницу, это рядом, прими душ и полежи. Вытяни ноги и расслабь мышцы. Я к тебе зайду.
— Когда?
Паша сделал неопределенный жест.
— Скоро.
Я с удовольствием прошелся по широкой авеню. Прохожих было мало, людно было только в кафе и в барах. У тротуаров плотными рядами стояли машины.
Вчерашний негр был не один, с ним был товарищ, и они играли в ма-джонг. Мне он улыбнулся как старому знакомому.
Я уже задремывал, когда ко мне ворвался Паша. Он был весел, возбужден, но не пьян.
— Пошли.
— Куда?
— Куда глаза глядят. Посидим где-нибудь и поболтаем. Посмотришь ночной Париж.
— Который fluctuat?
— Вот именно.
Я оделся, и мы вышли.
XIX. "Мулен Руж"
Всего, о чем мы говорили в тот вечер, я уже не помню. Началось с того, что заспорили о Наполеоне. Мы сидели в игрушечных креслицах за вынесенным на тротуар столиком кафе, от ярко освещенного входа в кабаре "Мулен Руж" нас отделяла только мостовая. Над вполне современным входом возвышается архаического вида башенка, к которой приделано некое подобие мельничных крыльев, лопасти расположены так, что никакой ветер вращать их не может, крутит их мотор. Крылья мельницы унизаны яркими лампочками, лампочки весело мигают, но вычурные окошки башенки и цокольного здания темны, как глазницы черепа, и это придает всему сооружению угрюмоватый вид. Вплотную к мельнице прилепились высокие здания, до самых крыш заляпанные световой рекламой, здесь все оттенки красного от молочно-розового до багрового, все это переливается и пульсирует. Голая танцовщица из аргоновых трубок застыла в экстатической позе, она рекламирует способствующую пищеварению минеральную воду "Vittel".
— В пятьдесят втором мы сидели здесь и смотрели, как вертится эта штука, — сказал Успенский. — Ничего не изменилось, как будто смотришь второй раз старую хронику.
— Кто "мы"? — спросил я.
Паша нахмурился.
— Мы с Бетой. И Вдовин. И еще этот… Александр Яковлевич. Почему ты спрашиваешь?
Я промолчал.
— Я знаю, о чем ты молчишь, — свирепо сказал Паша. — На том симпозиуме ты был нужнее, чем Вдовин. Даже чем Бета и я. Но в то время я не мог взять тебя. И не мог не взять Вдовина. Только кретины воображают, будто человек, обладающий властью, всегда делает, что ему хочется.
Это было совершенно в стиле Успенского — обстоятельства не раз заставляли его быть уклончивым, и все-таки уклончивость была не в его характере — и в научной полемике и в личных отношениях он охотно шел на обострение.
— Сейчас легко рассуждать, — проворчал он. По его лицу мелькали красноватые отсветы, и оно казалось воспаленным. — Сегодня даже старик Антоневич знает цену Вдовину, а тогда…
— Ошибаешься, — сказал я. — Старик Антоневич — единственный, кто знал ему цену уже тогда.
— Не считая тебя, конечно?
— Нет. Я тоже не знал. Хотя должен был знать. Он вышел из моей лаборатории.
— Хорошо, что ты принимаешь на себя хоть часть вины. Утомительно жить среди людей, у которых на совести нет ни пылинки. Ты никогда не видел Вдовина с бородой?
— Нет, — сказал я, удивленный.
— А я видел. Он там, в заповеднике, отрастил окладистую бородищу, и она выдает его с головой. Купец! Настоящий такой волжский купчина из крепких мужичков, с европейской хваткой и азиатской хитрецой. Знаешь, — Паша захохотал, — если кое-кому из наших пририсовать настоящие бороды, на кого они стали бы похожи? Петр Петрович — на директора гимназии.
— На протоиерея.
— Верно! Именно на протоиерея. На архиерея не потянет? Нет, не потянет, какую бороду ни клей. Возглашать — это все, что он может. А Вдовин — дай ему настоящий подряд…
— Он его и получил.
— Что ты этим хочешь сказать? (Фраза, которую мы все говорим, когда прекрасно понимаем смысл сказанного.)
— Он был тебе нужен.
— Полезен.
— Вот этого я как раз и не понимаю.
— Чего тут не понимать? Я проводил определенную кампанию, обсуждать мы ее сейчас не будем, это увело бы нас слишком в сторону. В этой кампании Вдовин делал то, что, к слову сказать, ты делать не хотел и не умел, но что с моей точки зрения делать было необходимо. Жизнедеятельность любого организма обеспечивается деятельностью различных органов, выполняющих всякого рода функции… Наполеону и то приходилось пользоваться услугами Фуше.
— Почему "и то"? Для меня Наполеон немыслим без Фуше. Так же как Гитлер без Гиммлера, так же как…
— Ого! Я вижу, у тебя с императором старые счеты.
— Никаких. Просто я его терпеть не могу. И яснее чем когда-либо я понял это здесь, в этом городе, где все полно им, от Триумфальной арки до пепельницы на нашем столе.
— Любопытно. А я когда-то даже увлекался Наполеоном. Почитывал кое-что. За что ты его так не любишь?
— Коротко?
— Если сумеешь.
— Чтоб не искать новых слов — за бонапартизм.
Паша засмеялся.
— Это, пожалуй, уж слишком коротко. А если не шутя?
— Скажи, пожалуйста, — сказал я, — ты был на могиле Наполеона?
— У Инвалидов? Был, конечно.
— А на могиле Пастера?
— Нет, не был. Но завтра мы с тобой будем в Пастеровском институте и попросим, чтоб нас сводили в гробницу. Почему ты заговорил о Пастере?
— Потому что Пастер великий француз и один из величайших ученых мира. Ученый, чье значение с годами не отходит в область истории, а непрерывно возрастает. Пастер серией блестящих экспериментов доказал невозможность самозарождения живых существ, а что доказал Наполеон? Что уничтожение живых существ в огромных масштабах — дело не только возможное, но выгодное и почетное. Пастер, применив асептику, спас людей больше, чем погубил Наполеон, а погубил он много, мне говорил один социолог, что после наполеоновских войн французы стали в среднем на пять сантиметров ниже, еще бы — гвардия умирала, но не сдавалась. Пастер заслужил вечную благодарность человечества, победив микроб бешенства, а что осталось от побед Наполеона? Он выиграл несколько сражений, а все основные кампании проиграл: египетскую, испанскую, русскую, пытался взять реванш и кончил Ватерлоо. И какова историческая несправедливость! Храбреца Нея за то, что во время Ста дней он стал под знамена своего императора, расстреляли, а виновника всех бед, по теперешней терминологии военного преступника, человека, начавшего свою карьеру с расстрела революционного народа, с почетом препровождают на остров, чтоб он мог там писать мемуары, а когда он отдает концы, его прах переносят в центр Парижа, в дом, где когда-то доживали свой век семь тысяч инвалидов войны, а теперь разевают рты туристы со всего света. А на могилу воистину великого француза изредка заглядывают считанные люди, в путеводителе так и сказано: посещение музея и гробницы — по договоренности. О сподвижниках я уж не говорю. Есть уличка, которая носит имя доктора Ру, это все. Каждый из наполеоновских маршалов отхватил по бульвару длиной в километр, все без разбора — и честный Ланн, и ничтожный Мюрат. А кому не хватило бульваров, тем достались авеню. Я вчера обошел кругом площадь Звезды и нарочно посмотрел на таблички всех авеню, что сходятся к Арке. Кого там только нет! И верный Клебер, которого дорогой вождь оставил подыхать в Египте, и палач Коммуны Мак-Магон. Не хватает только Петена…