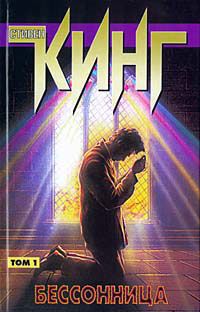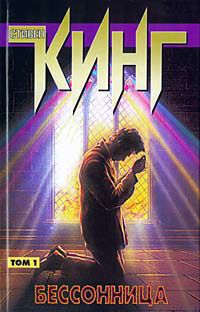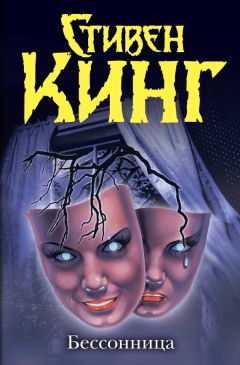Александр Крон - Бессонница
— Тогда самый последний вопрос. Разве это трудно?
— Да, не всегда легко. Консервативные правительства желают, чтоб наука подтвердила неизменность всего сущего, и гневаются, когда наука утверждает, что природа изменчива. Прогрессивные стремятся к быстрым преобразованиям и сердятся, что природа консервативнее, чем им хочется. Но "где, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?".
Я просидел за столиком больше часа и измарал много бумаги. За все время меня никто не потревожил. Уходя, я небрежно скомкал свои записи и сунул их в брючный карман — я знал, что они мне больше не понадобятся. Больше того, я постарался о них забыть, чтоб на трибуне чувствовать себя ничем не связанным.
До начала вечернего заседания оставалось еще много времени, достаточно, чтоб принять душ и полежать вытянувшись и ни о чем не думая. Так я и сделал. Единственное, о чем я подумал: надо ли переодеваться. И решил, что не надо. Галстуки меня душат, а сегодня мне как никогда нужно быть самим собой.
Перед уходом я подошел к окну, чтоб закрыть, и увидел знакомую фигуру. Она помахала мне рукой, и я воспринял это как доброе напутствие.
Затем я спустился вниз. На медной ручке второго номера висела картонка, предлагавшая на трех европейских языках не стучать и не беспокоить. Я потрогал ручку, дверь была заперта. В вестибюле за конторкой у коммутатора сидела мадам. Увидев меня, она как-то странно дернулась, мне показалось, что она хочет что-то сказать, но, как видно, раздумала, и я вышел на еще залитую вечерним солнцем улицу бодрой походкой юного Растиньяка, твердо решившего покорить Париж.
До Шато я добрался без приключений и вовремя. Мне показалось, что желающих проникнуть внутрь стало еще больше, но даже в голову не пришло, что это оживление хоть как-то связано с моей особой. А между тем ничего удивительного в том не было, если для участников конференции имя Успенского значило несравненно больше, чем мое, то для большинства гостей замена была почти нечувствительна — интересно было послушать представителя советской науки, кто бы он ни был, и все ждали моего выступления без особой предвзятости, равно готовые создать успех или поднять на смех. Вообще-то французы нелюбопытны к приезжим, в Париже можно встретить чужестранцев всех мастей, но для Парижа-57 советские ученые были зрелищем более занимательным, чем какая-нибудь королевская чета, и стоило послушать, как они понимают будущее цивилизации.
Встретивший меня у входа в зал Дени спросил, устраивает ли меня выступить вторым, и только после этого заговорил об Успенском, — это была деликатность. Я сказал, что готов выступать когда угодно.
Вечернее заседание началось под председательством лорда Гарольда Кемпбелла. Кемпбелл — крупный ученый и одна из самых уважаемых фигур в мировой научной общественности. Он очень стар, но держится прекрасно, никаких признаков дряхлости, на его большое, резко очерченное лицо с короткими, но пышными белыми усами под крупным носом приятно смотреть. Кемпбелл — лорд родовитый, а не свежеиспеченный, это значит, что его предки были обыкновенными шотландскими разбойниками, но сам лорд Гарольд несомненно человек гуманный в самом высоком понимании этого слова, и меня даже не очень волнует вопрос, владеет ли он каким-нибудь поместьем, у Льва Николаевича Толстого тоже что-то такое было. Я нарочно сел с краю, среди совершенно незнакомых людей, чтоб побыть одному. Выступавшего передо мной оратора я слушал почти внимательно. Я бы солгал, сказав, будто совсем не волновался, но это было волнение хирурга перед операцией, что бы ни происходило у него на душе, руки дрожать не должны. Поэтому когда председатель с некоторым затруднением произнес мою всю жизнь казавшуюся мне очень простой фамилию, я встал и подошел к председательскому столу так же, как привык входить в операционную, не спеша, со спокойной уверенностью в каждом движении, чтоб ни у помощников, ни у сторонних наблюдателей, спаси боже, не возникло даже тени сомнения в успехе. Я оглядел зал. По опыту лектора я знал, что надо отыскать в первых рядах несколько внимательных и симпатичных лиц и время от времени посматривать на них. Я сразу нашел глазами своих восточноевропейских коллег, милый Блажевич смотрел на меня дружески и поощрительно, но я тут же понял, что на этот раз мне следует поискать более точный контрольный прибор. Передо мной была типичная парижская аудитория, отзывчивая и капризная, с незапамятных времен избалованная красноречием всех оттенков, эта аудитория не простит мне ни скуки, ни неловкости, ее надо сразу брать за рога. Поэтому надо смотреть не на Блажевича, а на коллегу Дени, наблюдающего за мной с веселым любопытством, его ноздри слегка раздуты, полуоткрытый рот готов и засмеяться и деликатно зевнуть. Или на ту кислолицую лимонноволосую даму в золотых очках с квадратными стеклами и тянущимся из уха тонким проводочком слухового аппарата, по виду англичанку или скандинавку, она глуховата и французский язык для нее не родной — достаточно, чтоб перестать слушать, если начало ее не заинтересует. Кроме того, надо не забывать и о задних рядах. Пусть там нет делегатов, а только гости, причем в большинстве незваные, но это молодежь, а молодежи принадлежит будущее.
Я выдержал небольшую паузу. Она была нужна не только мне, но и слушателям. Они ведь еще и зрители, прежде чем начать слушать, они любят посмотреть на нового человека и даже обменяться с соседом критическими замечаниями насчет его внешности и костюма.
— Есть что-то знаменательное, — сказал я, — в том, что одна из первых международных встреч ученых, посвященных защите жизни, происходит в городе, начертавшем на своем щите "fluctuat nec mergitur" — гордый девиз, который в наше время мог бы стать девизом всей нашей планеты…
Сведения о гербе Парижа — гонимый волнами кораблик с латинской надписью, обозначающей "колеблется, но не тонет", я почерпнул из путеводителя. Не бог весть какое начало, но оно понравилось. Аудитория мгновенно оценила, что человек, прибывший "оттуда", свободно говорит по-французски, улыбается, шутит и, кажется, не собирается никого поучать. Мне удалось походя польстить городскому патриотизму парижан, по белозубому оскалу коллеги Дени я понял, что началом он доволен. Лимоннокислая дама поправила в ухе слуховой прибор и подалась грудью вперед. В задних рядах шло сочувственное шевеление.
Сегодня я уже не помню, что из намеченного за столиком бистро я успел сказать. Что-то, вероятно, расширил, что-то упустил. Стенограмма не велась, организаторы предпочли магнитофонную запись. Меня хорошо слушали и проводили аплодисментами. Кажется, я превысил на несколько минут отведенное мне время. Обычно в таких случаях председательствующий поднимался и, не прерывая выступления, слушал стоя, молчаливо взывая таким образом к совести оратора. Лорд Гарольд не встал — он слушал, приставив ладонь к большому, заросшему седым волосом уху. Сходя по ступенькам в зал, я чувствовал себя выпотрошенным и рухнул в мягкое кресло рядом с коллегой Дени, который смеялся и аплодировал. Мне он шепнул:
— Прекрасно. Вы имели абсолютный успех.
— Почему абсолютный? — спросил я. Честное слово, не из кокетства.
Дени засмеялся.
— Абсолютный, потому что одни верили в вас и благодарны за то, что вы их не подвели. Другие не верили, и вам удалось их удивить, а чтоб иметь успех в Париже, это чуть ли не самое главное.
Однако аплодисментами дело не ограничилось. Прежде чем объявить следующего оратора, председательствующий произнес несколько сочувственных слов по поводу моей речи. Он сказал, что мое выступление укрепило его в убеждении, что взаимопонимание и сотрудничество между учеными различных стран не только возможно, но и необходимо. Это, пожалуй, было поважнее комплиментов.
После меня говорили еще многие, говорили интересно, я старался слушать внимательно, но все время отвлекался мыслями от происходившего в зале, меня все больше и больше беспокоил Успенский. Вместо заключительного слова Баруа объявил, что заседание оргкомитета состоится завтра в отеле "Мажестик" сразу после посещения Пастеровского института, где нас ждут к тринадцати часам. Мне хотелось как можно скорее выбраться из Шато, мне был нужен Успенский, может быть, и я ему. Но это оказалось не так просто, я переходил из рук в руки, меня поздравляли, какой-то репортер пытался взять у меня интервью, и в зале, и в фойе, и на лестнице ко мне подходили незнакомые люди, одни хотели пожать руку, другие протягивали гостевые билеты, чтоб получить автограф. Во дворе какая-то рослая девица ни с того ни с сего чмокнула меня в щеку, судя по тому, как заржали стоявшие неподалеку парни, она сделала это на пари. Наконец мне удалось выбраться на улицу, полутемную, освещенную только лучами автомобильных фар, пахнущую весенней листвой и бензином. Я стоял, соображая, как лучше пройти к метро, когда за моей спиной смеющийся голос сказал: "Eh bien, monsieur! Comment ca va?"* Это было до оторопи неожиданно. Я обернулся и увидел Успенского, свежего, элегантного, ничего общего с тем небритым субъектом, который напутствовал меня поутру. Насладившись моей растерянностью, он обнял меня за плечи.