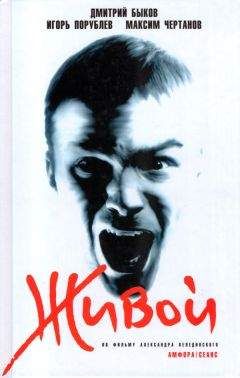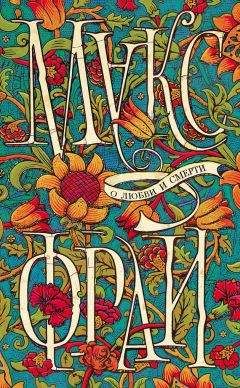Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном
О необходимости демифологизации Булгарина написано много — выделим многочисленные статьи А. И. Рейтблата, подготовившего и прокомментировавшего сборник его записок в Третье отделение «Видок Фиглярин», и уважительный, однако недвусмысленно полемичный отклик В. Э. Вацуро на этот семисотстраничный том. Некоторые авторы утверждают, что булгаринские письма в Третье отделение были не доносами в собственном смысле, а «экспертными обзорами» литературной ситуации — частью Булгарин выполнял поручения Бенкендорфа, частью проявлял личную инициативу. Оставим в стороне вопрос о том, насколько компетентен был этот эксперт в оценке литературной борьбы — систематического образования он не получил, а лекции, прослушанные в Виленском университете, вряд ли способны были заменить ему вкус, которого он был лишен начисто; об этом свидетельствует не только его проза, но и полное отсутствие пиетета перед более одаренными современниками (Пушкин, что любопытно, умел уважать оборотистость и своеобразный ум даже в Булгарине). Заметим другое — при такой классификации и Петр Павленко, автор отзыва на мандельштамовские стихи, который вместе с доносом Ставского привел к последнему аресту Мандельштама, не более чем эксперт, выполнивший властный заказ на оценку чужого текста. «Он не был ни штатным сотрудником, ни платным его агентом, скорее экспертом, своего рода доверенным лицом», — замечает Рейтблат, не уточняя, однако, что доверенное лицо (или эксперт) при Третьем отделении есть уже доносчик по определению — другие эксперты там не нужны. Апологеты Булгарина замечают, что записки и проекты по верховному заказу писал и Пушкин, и записку «О народном воспитании» он в самом деле подготовил, мотивируя свое согласие в письме к Вульфу недвусмысленно: «Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро». Пушкинская записка, содержавшая, в частности, требование о деидеологизации преподавания истории, сведенной к «голому пересказу», и о категорической отмене телесных наказаний, привела лишь к тому, что ему, по признанию в письме к тому же Вульфу, «вымыли голову», даром что велели благодарить. Булгарин обладал счастливым даром писать именно то, «чего хотели», — вследствие чего в большинстве случаев его записки встречались вполне благосклонно, особенно когда он в лучших традициях русской официальной идеологии увязывал между собою мартинизм, масонство, тлетворное влияние Европы, арзамасский кружок и декабризм. Булгарин с великолепной откровенностью советовал: «В монархическом неограниченном правлении должно быть как возможно более вольности в безделицах. Пусть судят и рядят, смеются и плачут, ссорятся и мирятся, не трогая дел важных. Люди тотчас найдут предмет для умственной деятельности и будут спокойны. Дать бы летать птичке на ниточках, и все были бы довольны». Сегодня подобную экспертную записку охотно подали бы многие добровольцы — и нет сомнения, что они были бы с благодарностью услышаны. Апофеоз свинства — думается, даже сознательного, ибо герои мифов подчас догадываются о своей роли и начинают вести себя с почти клинической наглядностью, — являет собой записка к Дубельту 1850 года: Булгарин сетует, зачем-де император запретил «печатать все, относящееся к юбилею 25-летнего благополучного и славного его царствования». Но как же! Но почему! «Люди никак не могут постигнуть, почему запрещают верноподданным изливать чувства своей любви и преданности к Государю!» — ты же моя лапа… Комментируя эволюцию Булгарина, Рейтблат справедливо замечает: «Булгаринские черты, готовность так или иначе сотрудничать с властью и в случае необходимости „наступать на горло собственной песне“ была присуща многим. Я думаю, что через это явление можно „подступиться“ к Булгарину, понять его не как патологического мерзавца, урода в литературной семье, а как закономерное порождение определенной социально-психологической ситуации». Вацуро решительно возражает против этой «закономерности» и, главное, против ссылок на ситуацию и среду: «Это впечатляющая, глубоко поучительная и актуальная для последующих эпох история постепенной эволюции личности — от либерализма к конформизму, от конформизма к добровольному сотрудничеству с властью, от сотрудничества к официозу, от официоза к доносу». Не станем, однако, вдаваться в обсуждение проблемы, насколько типично и оправданно такое поведение: в конце концов, предательств в нашей повседневности хватает, и у каждого есть веские причины, но Иуду это не обеляет ни в какой степени. Заметим лишь, что русский культурный миф — и народное самосознание — назначили на роль Иуды именно благонамеренного эксперта. Думаем, что благонамеренных экспертов, которые еще думают о своей репутации, это может подвигнуть на некоторые размышления.
Есть, однако, и второй аспект булгаринской бурной деятельности: Фаддея Венедиктовича нашего называют пионером российской массовой культуры. Именно он первым прибегнул к аргументу «от толпы»: хорошо или плохо написанное мною, а моего «Выжигина» читают тысячи, тогда как Пушкин рассчитывает лишь на одобрение своего аристократического кружка, который и лоббирует его в журналах, создавая безнравственному и поверхностному певцу репутацию гения. Полемика Булгарина с Пушкиным — спор плебея с аристократом, даром что плебей не лишен сообразительности, наблюдательности и стилистической лихости. Апологеты массовой культуры могут и в самом деле пользоваться сколь угодно широкой прижизненной популярностью — однако посмертная судьба их незавидна: Булгарина читали, но цену ему знали, и эту важнейшую русскую особенность — широко потреблять, но глубоко презирать — следовало бы учитывать всем, кто сегодня ссылается на свою всенародную популярность. Эта популярность не мешает посмертному охаиванию, и более того — предполагает его; репутацию Иуды и литературного убийцы Булгарину создавал тот самый массовый читатель, который радостно раскупал семитысячный, баснословный для 1829 года тираж «Выжигина».
Это еще одна важнейшая черта российской культуры: аристократизм (необязательно буквальный, родовой, но прежде всего мировоззренческий) ей любезней разночинства, по крайней мере в исторической перспективе. Аристократ, «имеющий право», не снисходящий до объяснений, послушный не «презренной пользе», а чувству прекрасного, может претендовать на духовное лидерство; тот, кто угождает массовому вкусу — в политике ли, в культуре, в образе жизни, — никогда не может рассчитывать на посмертную благодарность этой самой массы, хотя бы она и травила аристократа при жизни. Пушкин в русской культуре воссиял, а Булгарин очернен необратимо — даром что в последние годы Пушкина современники его либо осмеивали, либо игнорировали, либо не понимали. Булгарина они понимали всегда, чего там не понять-то.
Наконец, третья причина безоговорочного попадания Булгарина в разряд иуд, не подлежащих реабилитации, — это отсутствие естественного благоговения перед гением. Важная особенность русского культурного сознания — даже подвергая гения травле, она его уважает (в сущности, травля и есть одно из нагляднейших проявлений уважения). Булгарин не чувствовал, кто перед ним, и позволил себе после пушкинской смерти в частном письме заметить: «Ты знал фигуру Пушкина, можно ли было любить его, особенно пьяного!». Гения можно ненавидеть — но надо понимать, кто перед тобой; кто этого не понимает — тот обречен на самую низменную роль в истории, на позор без реабилитации. Бенкендорф — и тот выглядит приличнее, роль Каифы пристойней, чем выбор Иуды. И хотя Булгарин не ходил в пушкинских учениках, не предавал Пушкина напрямую, а лишь доносил на него (что, кстати, осталось без прямых последствий), он свою нишу заслужил уже тем, что не понимал, кто перед ним. Это уникальное сочетание трех черт — готовность экспертно услужить, апелляция к низменному инстинкту черни и презрение к божеству — создали образ русского Иуды, который вечно теперь останется антиподом русского Христа, каких бы усилий ни предпринимали демифологизаторы, каких бы иллюзий ни питали современные эксперты.
Впрочем, еще одна важная особенность русского мифа — то, что наш Иуда не удавился. Он умер своей смертью в возрасте семидесяти лет, в имении близ Дерпта, в полузабвении, но при деньгах; в России вообще редко осуществляется буквальная месть, так уж устроен местный характер. До расправ он не снисходит. Ему вполне достаточно того, что антигерой становится нарицателен — и от этого уже не отмоешься. А там живи сто лет, как Дантес, — не руки же об тебя марать.
2-е воскресенье июля
День рыбака и почты
РУССКИЙ ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Во второе воскресенье июля по распоряжению Президиума Верховного Совета СССР (1968) отмечается День рыбака — тогда как Всемирный день рыболовства, напомню, приходится на 27 июня. Так вышло, что с 1994 года по указу Президента России в то же второе воскресенье июля отмечается еще и День российской почты — в то время как Всемирный день почты, напомню, празднуется 9 октября. Я думаю, что это неспроста. Россия знает, что делает, заведя себе отдельные праздники рыбака и почты, да вдобавок отведя им один общий день. Думаю, это совпадение означает, что в эзотерическом российском календаре (который, безусловно, существует, но открывается только на высших ступенях посвящения, начиная с уровня замминистра) второе воскресенье июля — день бутылочной почты. Бутылочная почта, отправленная в этот день, обладает особенной силой, о чем ниже.