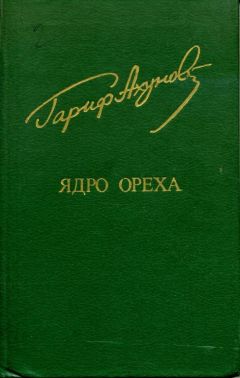Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
Без всякого таи разбора стихов — это все тяжело придумано и ложно обосновано. Вознесенский кричит мне, читателю (опять от имени какого-то придуманного физика): "Брось искать подтекст, задрыга!" О господи, да я и не ищу его, я хочу пробиться сквозь него, я текста жажду, а натыкаюсь все не подтекст, не предварения, объяснения, жалобы ("сам себе надоел, зараза"), на сетования, что обыватели будут "жевать бифштекс над этим вот листом»… Ну да, так я и поверил! Если этот страх действительно важен, то легче всего, кажется, сделать жевание над листом практически невозможным, и куда, я думаю, труднее пробиться к читателю с "этим вот листом "… однако пробиваемся и стонем.
Личность потому и ощущает себя личностью, что выделив себя из так называемого хаоса мира, вносит себя в хаос как организующую духовную силу. Хаосу совершенно все равно, пребываешь ли ты в нем во взвешенно-безмятежном состоянии или рыдаешь, изображая собой этот хаос. Капитуляция личности имеет сомнительное воздействие на хаос, но зато эта капитуляция имеет страшное воздействие на личность. Воздействие тем более разрушительное, что все вроде было осознано. От осознания человеком нужды в гармонии есть только один достойный путь: противостоять хаосу. И никто, кроме самого человека, этот путь не проделает.
В августе 1965 года "Литературная газета» проводила очередную дискуссию о состоянии нашего творческого хозяйства, Речь шла о поэме. Естественно, договорились о скором расцвете этого жанра. Спорили: как добиться расцвета? Что в поэме главное: характер или драматизм обстоятельств? Борис Рунин, выведенный из равновесия этими категорическими "или", осмеял самый спор:
— Пусть пишут, как хотят, отстаньте со своими теориями.
Но прекращение спора — не решение проблемы.
Характер — это состояние личности, ее восхождение от частного, характер — это земное рождение поэзии, это — лирика.
Лирику нельзя возвысить до эпосе с помощью внешних мер. То есть, можно, но это будет имитация, проза. Двадцать лет назад поэмой называлось сюжетное повествование, изложенное стихами. Драматизм "чистых обстоятельств" должен был укрепить "чистый характер, не знавший внутренней тяги вверх. Поэма изготовлялась соединением двух самостоятельных половинок — прозы и лирики. Изъяны взаимно уравнивались.
Нет — это не то.
Поэма есть синтез характера и обстоятельств, отдельного и целого, героя и мира. Синтез или…или жажда синтеза. Личность должна дорасти до этой жажды, ощутить ее в себе, найти в себе способность охватить в понять мир. Поэма приходит как естественное разрешение лирической загадки, как венец пути личности или, перефразируя Маркса, как обнаружение того, насколько мир личности внутренне широк, и несколько весь широкий мир стал для человека личным. Трижды русская лирика восходила к этой вершине: когда лирический генийПушкина встретился с государственным гением Петра, и еще — когда горечь Некрасова слилась с горечью народа, и еще — когда Блок, Пастернак, Маяковский ощутили всемирный смысл накрывшей их революции.
У поэмы нет никаких канонов, но есть — внутренний. Личность должна подняться до эпоса, ощутить жажду единства с миром. В себе открыть это:
"— Неужто я — лодчонка утлая и, словно волны, катят страсти, швыряясь мной"? — Но голос внутренний мне отвечал: "Ты — катер связи. Спеши волнами разъяренными, тяжелый от обледененья, к тем людям, льдом разъединенными и ждущими объединенья…"
…Открыв в себе эту жажду» Евгений Евтушенко, как всегда, заспешил. Поэт подвижный, нетерпеливый, поэт утренних надежд и весенней бодрой свежести, поэт первых порывов — он не умел ждать ни секунды: уловленная и в себе жажда связи с землей стала стремительно оформляться в лозунги, по совпадению руссоистские: "совершенство есть просто природность", вернемся к земле и т. д. И, как всегда, его беспокойство тут же оставило позади его собственные пророчества. К нему подступало новое состояние. Личность, в свое время утверждавшая себя столь болезненно — истерикой и шутовством, упрямством и капризами, личность, нашедшая себя в беспредельном, казалось бы, протесте, — почувствовала, наконец, дыхание пределов, дыхание того последнего горизонта, за которым все теряет смысл. Здесь должна оправдаться давняя мечта, ожидание грядущей формы, в которую все уляжется. Здесь отечество духа и общий смысл усилий. Здесь — родина и исток.
Россия…
И едва за летящими сибирскими пейзажами забрезжило ему бесценное единство, охватываемое этим волшебным словом, — о, как он опять заспешил! Он собрал всё: что видел и что читал, что запомнил с детства к что заметил сейчас, что любил и чего едва коснулся сердцем. В невероятном усилии, стремясь помочь самому себе, он склепал это взбудораженное «наше все» извне, он выдумал игру, нашел раму, чтобы вместить дыбом вставшее богатство. Чувствуя эти внешние обручи, сжимающие трепещущий поэтический организм, он нашел своему нетерпеливому самоподталкиванию формулу, которую и поставил в первую строку поэмы:
— Поэт в России больше, чем поэт.
Говорят, нынешние старшеклассники узнают из поэмы Евг. Евтушенко о существовании петрашевцев и Степана Халтурина. Я был обезоружен этим доводом… А что десятиклассники действительно взахлеб читают поэму Евтушенко — в этом я не раз убеждался собственнолично. Ну, в добрый час! Чего-чего — материала в поэме более чем достаточно. А если уж какой отличник и так знал о петрашевцах, так хоть про графа Салиаса наверняка впервые прочтет в «Братской ГЭС». Огромный материал, собранный Евтушенко, поражает, пугает, втягивает, утомляет, снова втягивает и снова пугает. Сквозь поэму проходишь, как сквозь лес. Может быть, с этим надо примириться? Пусть школьники, путешествуя сквозь этот лес исторических и прочих сведений, запоминают получше имена и названия. Науки юношей питают. Я же позволю себе оставить в стороне эту, безусловно, важную сторону дела. Меня сейчас не интересует Евтушенко-историк. Меня интересует Евтушенко-поэт, Я слишком хорошо чувствую, что он — поэт. Хотя сам он заявляет, что он — нечто другое.
Иными словами: что объединяет этот гигантский агрегат сведений, называемый поэмой? Что есть внутренний нерв ее? Какая личность пропускает через себя исторический поток, что черпает она в потоке, что происходит в ее душе?
Обратите внимание: бесконечно пестрый поток сведений точно необходим Евтушенко. Это в замысле. Без этого самая душа его не выразится вполне: ему нужны сталкивающиеся начала. В его таланте заложена подвижная переимчивость, которая жаждет молиться сразу семи богам! Евтушенко молится перед поэмой: Пушкину, Лермонтову, Некрасову, Блоку, Пастернаку, Есенину, Маяковскому. Да как — виртуозно, артистично, редкостно имитируя стиль каждого. Потом, по ходу поэмы, будут возникать реминисценции из Суркова, Винокурова, Окуджавы, Ахмадулиной, Вознесенского, Коржавина… И все будет опять виртуозно, и будет мгновенно меняться стиль, ритм, метр. И вы почувствуете, что не случайно все, что здесь необходимо именно это многоголосье, это переодевание, это перепоручение голоса; тут и впрямь потребовалась целая армия поэтов; невозможно было рассказать одним естественным голосом то, что задумал Евтушенко — выстроить всю тысячелетнюю историю в логичный ряд, оправданный всеобще разрешающим результатом. Воистину историк не решился бы на столь дерзкий замысел — тут нужен был поэт. То, что задумал Евтушенко-историк — лишь следствие того, что подспудно мучит Евтушенко-поэта.
Его мучит ощущение трагизма человеческой истории. «Всяких взрывов» навиделся он… «Колют, рубят, а много ли проку? Только кровь проливается зря!» «Зря» или «не зря»? Вот вопрос, который приковал его к себе. А если «зря» — так стоит ли? Может, лучше — покойность простых ценностей? Гармония, не потревоженная движением? Милая, сланная, естественная жизнь, не тронутая кровавым перстом цивилизации? «Мне хочется в заросли девственные, куда-нибудь, хоть к индейцам…». «Мне снится мир, где все так первозданно…». «По имени «Аллея Тишины». «И эта золотая просквоженность… снимала суету, как прокаженность…». Назад, к природе! «Как дети слепые — из матери, мы вышли из чрева лесов…». Из этой завороженности покоем и выходят у Евтушенко все его деды-домоседы, все его мудрые старички-лесовички. загадочно ухмыляющиеся при виде нашей суеты… Потом, будто очнувшись, Евтушенко начинает лихорадочно наверстывать: яростно дуют ветры, яростно палит солнце, яростно скачет мир; «надо драться!» — и стих его рвется в драку, встает дыбом, кричит криком. Так и движется поэма между двух берегов: с одной стороны — тишина и гармония, звезды и избы. С другой — «стрелять, стрелять, стрелять, стрелять!» И мечется Евтушенко от берега к берегу, от гармонии к героике, от покоя к подвигу и обратно…