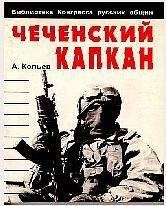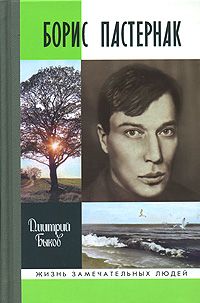Борис Мансуров - Лара моего романа: Борис Пастернак и Ольга Ивинская
То, что публикация преследовала благородную цель защиты Ольги Ивинской, подтверждает факт, о котором стало известно недавно: в книгу вошли не все письма; не вошло, например, письмо Бориса Пастернака Ренате Швейцер, о котором знакомая Ренаты[363] сказала: «Это было самое прекрасное любовное послание из всех, которые мне приходилось читать».
Рената Швейцер осознавала важность свидетельств, которыми она обладает:
Поскольку отношения между Ольгой Ивинской и Пастернаком, а также ее личность в целом освещались прессой с ложной стороны, я чувствую себя обязанной опровергнуть эти порой просто клеветнические описания письменным свидетельством самого Пастернака. Устные пересказы не имели бы здесь веса. Я делаю это еще и потому, что эти связи и внутренняя борьба обнаруживает всю тяжесть его судьбы, из которой выросли лучшие стихи и «Доктор Живаго».
Так Рената Швейцер предваряет публикацию пространного письма Бориса Пастернака от 7 мая 1958 года. Она не скрывает, что долго колебалась, публиковать ли его. В то время Герд Руге писал об истории возникновения романа и о том, что время помогло Пастернаку преодолеть свой внутренний кризис.
Позже, при встрече в Переделкине, Пастернак говорил ей об этом «внутреннем кризисе» и о том, что работа над романом спасла его от отчаяния, когда Ольга Ивинская была из-за него арестована. Но его творчество не было одурманиванием себя, он осознавал боль как углубление духа и претворял ее в своем произведении. Это было единственное, что он мог сделать для Ольги, — и это была его непрестанная благодарность.
«Пользуюсь случаем окольным путем[364] написать Вам немного больше и свободней» — этими словами начинается письмо Пастернака от 7 мая 1958 года, которое потом будет опубликовано и прокомментировано во многих газетах и журналах мира, исключая, разумеется, советскую прессу.
У меня добрая, прекрасная жена. <…> Она достойна любви, благодарности и восхищения. Обмануть ее, скрыть от нее что-то или изменить ей для меня так же немыслимо. <…> И немыслимое случилось. Оно может длиться, оно имеет право пребывать, оно достойно этого. После Второй войны я познакомился с молодой женщиной, Ольгой Всеволодовной Ивинской, и вскоре, не будучи в силах вынести раздвоения и тихой, полной упрека грусти моей жены, пожертвовал едва начавшейся близостью и порвал с Ольгой Всеволодовной. Вскоре она была арестована и провела пять лет в тюрьме и концентрационном лагере. Ее взяли из-за меня, и поскольку в глазах тайных органов она ближе всех стояла ко мне[365], по-видимому, рассчитывали путем жестких допросов и угроз добиться от нее показаний, достаточных для того, чтобы погубить меня на суде. Ее героизму и стойкости я обязан жизнью и тем, что меня не тронули в те годы. Она — Лара того романа, который я как раз начал писать в то время. <…> Она — олицетворение радости и самоотдачи. <…> Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела. В продолжающихся неприятностях с «Живаго» от меня только два раза потребовали личного ответа. Высокое начальство продолжает рассматривать Ольгу Всеволодовну как мою заместительницу, готовую принять на себя всю тяжесть переговоров и ударов[366].
Рената Швейцер, по ее собственному признанию, была счастлива знать, что около Пастернака есть женщина, не испугавшаяся никаких жертв и на жестоких допросах не позволившая выжать из себя ничего, что не соответствовало бы действительности и могло бы быть использовано против Пастернака. Сама будучи личностью творческой, Рената понимала, как важно было такому человеку, поэту, выйти из своего внутреннего одиночества и иметь возможность поговорить с женщиной таких же настроений, найти понимание и к тому же еще и творческий толчок.
Это потрясающее своей откровенностью и информативностью письмо придет в Западный Берлин, где жила Рената Швейцер, через Рим в начале сентября, а пока Рената со слезами на глазах читает послания, написанные ясным, легким, утонченным почерком, которые летели к ней из Москвы.
Это было настоящим счастьем: казалось, что Борис Пастернак протянул ей руку! Она осознавала и то, что этот великий человек ответил ей с больничной койки[367].
«Я много отдала бы за возможность принести Вам цветы в палату, если бы я могла облегчить Ваши муки!.. Охотнее всего я села бы в ближайший самолет и полетела в Москву», — призналась Рената в письме от 13 апреля 1958 года. В этом письме она сокрушается по поводу незнания русского языка и решается на признание в том, почему она тоскует по личности, способной стать для нее примером. Не для подражания в творчестве, хотя, может быть, отчасти и для этого, но в первую очередь для понимания ее писательских опытов. «Женщина не может обойтись без признания со стороны мужчины, без такого признания ее попытки останутся частным высказыванием, которое никогда не может стать искусством».
С этим письмом она посылает свое стихотворение «Ангел», на которое Пастернак откликнулся уже 4 мая. Правда, это была лишь открытка, но содержание послания так окрылило Ренату, что она посылает ему свои 20 «Сонетов к смерти», написанных в 1954 году на смерть своего друга, знаменитого дирижера Вильгельма Фуртвенглера, с просьбой оценить их. Она понимала несовершенство своих сочинений, но надеялась, что Пастернак ответит осторожными словами. Иной критики, по ее собственному признанию, она бы не вынесла. В ответном письме на открытку Пастернака Рената пишет о своих занятиях музыкой в Берлине и Вене, о своей прежней жизни, когда в течение 20 лет с ней рядом был Вильгельм Фуртвенглер, о той работе, которую ей приходилось делать[368].
После получения открытки с ответом на «Ангела» ее будни совершенно переменились. По собственному признанию Ренаты, она «в первый раз в жизни переживала чудо встречи с поэтом в своем стихотворении». Ей все еще не верилось, что такой отклик — этот подарок от Пастернака — последовал только после двух ее писем!
«Фрау Рената, милый друг, Ваш дивный „Ангел“ стоит передо мной, весь в звуках Вашего милого голоса; я счастлив, что мой чудный новый друг так талантливо торжествует надо мной победу. <…> Мне кажется, Вы подошли к порогу моей жизни и намерены благосклонно переступить его», — писал ей Пастернак. Он был готов познакомить ее с двумя или тремя его лучшими подругами и помощницами из своего окружения, называя их ближайшими и достойными соседками Ренаты. А Рената в ожидании ответа на свое пространное письмо боялась, что такая реакция большого поэта — случайность, краткий проблеск, который исчезнет.
29 мая приходит открытка с отзывом на «Сонеты». Отмечая «лишь осуществленное, наивысшее и достигнутое», Пастернак писал: «Очень, очень хорошо, очень волнующе, родственно. Меня преследовало чувство совершенной по отношению к Вам бестактности, неуместного моего покровительственного тона. Я должен был угадать в Вас профессиональную писательницу».
Несмотря на высокую оценку из уст Пастернака, у Ренаты появилась тоска «по живой теплоте его первых писем». В июне Пастернак обращается к ней с просьбой быть посредницей в деле, касающемся гетевского «Фауста» и «Музея Фауста» в Книтлингене[369]. Он просит просмотреть несколько страниц текста, опасаясь за свой немецкий язык.
Опасения оказались напрасными. «И я просто должна была ему сказать, насколько захватила меня статья, в которой он скупыми словами, ясно и четко обрисовал замысел всей[370] книги. Замысел, который мне, немке, стал ясен лишь постепенно, из разговоров с моим отцом и в результате работы с литературой о Гете», — признавалась потрясенная Рената Швейцер.
Она осознала, что этот гениальный человек, способный так глубоко проникнуть в психику и язык другого народа, имел возможность общения с внешним миром лишь «через решетку клетки». Уже вскоре Рената озадачивает Пастернака своим намерением приехать в Переделкино, на что поэт просит ее отложить посещение на год, подробно изложив ряд причин[371].
Несомненно, расстояние и политические моменты тех лет вмешивались в ход этой переписки. Так, некоторые письма терялись, какие-то так долго были в пути, что возникали и небольшие недоразумения. Так получилось с переходом на «ты», когда Пастернаку показалось, что Рената форсирует их отношения. Его фраза «с напрашивающимся уже порывом к переходу на „ты“ подождем до третьего заболевания»[372] привела Ренату, по ее собственному признанию, в смятение. Она стала серьезно искать причину такой реакции Пастернака, стала анализировать свои письма, посчитала необходимым объясниться[373]. Рената пишет Пастернаку:
Только в чем дело с «ты», я не совсем понимаю. Мне ведь совершенно не важно, говорите ли Вы мне ты, Вы или он. Кроме того, я принадлежу к числу людей, не выносящих насилия (в особенности в области чувства) и не могу требовать того, чего сама бы не потерпела. Если судьба пожелает и мы скоро встретимся, то не раньше как в минуту этой встречи обнаружится, действительно ли я могу быть для Вас «сильнодействующим спасительным источником»!.. я ведь знаю, какая ничтожная мелочь может иной раз разрушить большую иллюзию, а поэтому, Борис, из чувства самосохранения я должна все продумать и быть ко всему готовой.