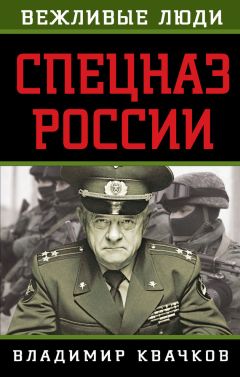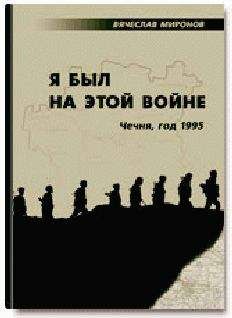Александр Блок - Том 6. Последние дни императорской власти. Статьи
В другой раз у него украли бумажник:
Жаль тебя мне, пасынок для света,
В скользкий путь плывущий без руля!..
Вынул ты бумажник у поэта;
Не нашел в нем даже и рубля.
Зажглись звезды — Мейснер пишет:
В стемневшем горном изумруде
Зажглись огни… Торжествен миг.
Я вдруг сказал: «Как жалки люди!»
Сказала ты: «Как мир велик!»
К катающейся на коньках «молодой пани» поэт относится совершенно так, как капитан Лебядкин:
На коньках, в легкой плюшевой шубке,
Вижу грацию запада вновь.
Лебядкин писал:
И порхает звезда на коне
В хороводе других амазонок.
Вот Мейснеру не удалось писать стихи:
В вечерний час мой стих мгновенный
Едва лишь вспыхнут сквозь туман,
Забыв глагол его священный,
Я вдруг пошел в кафе-шантан.
Вот Мейснер философствует:
Летит, летит времен немолкнущий каскад…
Как уловить волны его движенье?!
Разбейте порцию еще на шестьдесят.
Или:
Отстанешь — будешь одиноким,
Опередишь — опять один.
Или:
Не верю я иль верю? Иль в сомненьи?
Как дать отчет холодному уму?
Или:
Среди безликого тумана
Иду вперед не первый век.
Еще я — богообезьяна,
Еще не богочеловек.
Или:
Страдание — одних приводит к богу,
Других ведет предательски в вертеп.
Все цитированное выбрано из невообразимого количества стихотворений; там есть много еще в таком же роде: описано, как лошадей гонят на бойню и лошади это предчувствуют; как происходит самосуд, как везут спекулянта, есть размышления о дороговизне, о падении самодержавия, предложение переименовать шефские полки, приветствие самоопределяющимся окраинам, соображения о Брестском мире, о первомайском празднике, о бабочке, взлетевшей в окно, и пр. Многое совсем не бесталанно, но это — не поэзия, а так — русское, бытовое.
О Мейснере можно еще раз повторить, что он — один из пращуров Игоря Северянина, но я бы не стал издавать ни малоизвестного пращура, ни славного внука, тем более что шесть книг стихов Мейснера уже изданы. Мейснер — не поэт, а бытовое явление.
В. Святловский. В тоске по солнцу
Стихи. П., 1919 (на машине)
Того же автора есть:
1) Янтари, сборник стихов с 12 иллюстрациями художника В. Праведникова. П., 1916,
Седые города. Стихи. П., 1917.
В стихах Святловского нет оригинальности, нет и свежести; они детски-беспомощны; много знанья внешнего, никакого опыта внутреннего: оттого — разнообразные на первый взгляд по размеру, они очень бедны ритмически. Все полно метафор, большей частью совершенно банальных: «слово — пламень, слово — лед», «пробить ступени по террасам творчества»; «острота отравы»; недопустимые неумелости: «осыпались листы, увяли мои розы»; недопустимые шаблоны: «грёзовый туман»; старомодное декадентство («пес дерзанья», «безбрежности нерадостный чертог») рядом с детскими перепевами Пушкина. Перечисляя все, что он любит в городе, Святловский в заключение аккуратно говорит: «И наконец люблю я…» Кому придет в голову назвать церковный благовест — исканием! Одно из двух: или об этом нужно долго и натруженно думать, или — быть русским интеллигентом. Стихи Святловского — это и есть стихи русского интеллигента, то есть нечто во многих отношениях милое в домашнем обиходе (как, например, самые корявые стихи о звездах), но возмутительное, нестерпимое, если увидишь это в печати.
Всеволод Полянский. Стихи для журнала
Некоторое удовлетворение — в старинности и влиянии хороших образцов (Фет). Но: банальности: «тонкий яд волшебных грез», «в солнечном детстве затерянной сказки», «роса хрустальных слез», «счастье золотое». Большие буквы сплошь (в нескольких стихотворениях): «Голоса Молчания», «Родина», «Мир», «Таинство» и т. д.
16 марта 1919
О Дмитрии Семеновском
Прочтя сначала подряд тетрадь «Заревые знамена», я не пленился ни одним стихотворением в целом. Русь, революция, природа, против войны, против жестокости, немножко рабочего быта и переводы. Можно различить разные веянья, которыми окружен автор, — племенные веянья (общерусские напевы, образы) и литературные.
В родовом, русском — Семеновский роднится иногда с Клюевым, не подражая ему, но черпая из одной с ним стихии; это как раз то, что мне чуждо в обоих, что приходится признать, с чем нельзя не считаться, но с чем, по-моему, жить невозможно: тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь. Особенно роднят Семеновского с Клюевым такие образы:
Телега — ржаная краюха —
Увязла в медовый раствор.
Медовым раствором назван навоз — это совсем уже плохо, даже независимо от сущности. А сущность — липкое, парное, ржавое. Можно погрузиться в этот мир, как во всякий настоящий и непридуманный мир, и поверить, что «двор — уж не двор, а дворец», потому что там — «сокровища кала», но тут скоро задохнешься. В этом мире нет места для страсти — она скоро превращается в чувственность, и веянием этой обезличивающей чувственности уже проникнуты порою «природные» стихи Семеновского: страсть уже обескрылена там, где начинаются сравнения (эти «опоясанные тучки», эти «сироты-овины», «мохнатые снопы»)[22], где начинают играть большую роль запахи, где постоянно близка ржавая болотная вода.
Вся эта часть первой тетради, однако, более приемлема, чем та, где сказались разные литературные влияния. Надо быть очень культурным (звеном в длинной культурной цепи), чтобы заимствовать первосортное. Проникаться культурным влиянием — дело очень сложное и не личное только (то есть одних личных усилий и личной любви к культуре для этого мало), культура должна быть в крови; у Семеновского, кажется мне, недостаточно культуры, поэтому он сходен с разными образцами во второстепенном; а иногда чувствуется просто даже «насвистанность».
За землю, за волю, за хлеб трудовой
Идем мы с врагами бороться.
В ком сердце горячее бьется,
На бой, на бой, на бой.
Это есть в каждом номере каждого пролетарского журнала.
Подлинный поэт чувствуется в авторе второй тетради — «Иконостас». Здесь находят себе объяснение (хотя далеко не всегда — оправдание) главные недостатки Семеновского, и первейший из них — растянутость. Стихи эти длинны, как разглядывание иконостаса во время длинных церковных служб или как знойный и пестрый день деревенской ярмарки, к описанию которой не раз возвращается автор.
Этими длинными стихами о русских святых — как они на иконостасе и как они двинулись в крестном ходу — я бы и открыл книгу стихов Семеновского, а все остальное отодвинул бы на второй план, притом с большим выбором. Вышла бы небольшая, но очень своеобычная книга. Может быть, и в основных стихах следовало бы кое-какие строфы выкинуть.
Почему-то в отдел «сомнительных стихов», к которым я отнес бы вообще гораздо больше, попали стихи со строфой о божьей матери:
Громадны очи на лице
Спокойном, высохшем и смуглом,
Каменья теплятся в венце,
Как месяц золотом и круглом.
Это — по-настоящему сказано. Дальше поразило меня приятно, после насвистанного и просвистанного «Взвихрись, полымя алого стяга», — следующее:
Горя дрожащей бахромой,
Хоругви в небесах полощат.
Казаки с важностью немой
С коней оглядывают площадь.
Или:
С иконостасом на груди,
С борами на багровой вые,
Кричат народу: «Осади!»
Сердитые городовые.
Поэт любуется и казаками и городовыми и не может иногда не любоваться, потому что он поэт и непременно спорит с тем другим своим «я», которое дробно барабанит: «Но восстанья пылающий сполох сжег дотла вековую тюрьму».
То «я» никогда не простит другому, для которого «толпа колеблется, как рожь», которое слышит, как
Гремит расстроенный орган:
«Когда б имел златые горы»…
Скотины рев, божба цыган…
Как все это хорошо!
Часто свойственно Семеновскому начать очень хорошо, а потом — сразу сбиться и вовсе свести на нет стихотворение. Таков «Ярославль» с превосходными двумя начальными строками: