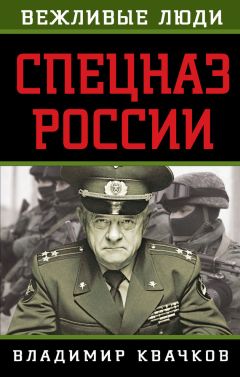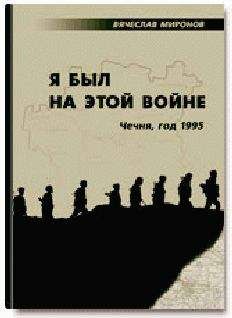Александр Блок - Том 6. Последние дни императорской власти. Статьи
На всем этом мне хотелось остановиться дольше, потому что это — единственное, что мне кажется действительно вредным для языка и вкуса. Нельзя сказать, чтобы Дм. Цензор грешил этим больше, чем другие, а кроме того, он заметно освобождается от таких привычек; во второй книге он становится проще. Кругозор его по-прежнему неширок, на стихах лежит печать газеты; перепевает он самого себя без конца, но все-таки, переходя от отрицательного к положительному, надо сказать о нем, что он появился в то время, когда поэтов были только десятки, а не сотни, как теперь, что он чист душой и, главное, что временами он поет как птица, хотя и хуже птицы; видно, что ему поется, что он не заставляет себя петь. Потому мне кажется, что можно издать одну книгу его лирики, составив ее из двух и порекомендовав ему откинуть размышления и описания природы и сосредоточить свое внимание на простых картинах городской жизни, которые ему удаются более всего, хотя он и озаглавил их, мне кажется, слишком претенциозно — «Легенда будней».
Георгий Иванов — полная противоположность Д. Цензору, как по времени своего поэтического рождения, так и по личному складу. Если одного бросила в мир малая революция, которая открыта какие-то источники песни и научила негромко петь без размышлений, то другой вступил в мир в годы самой темной реакции, которая петь никого не учила, но которая создала из него нечто удивительное и непонятное. Когда я принимаюсь за чтение стихов Г. Иванова, я неизменно встречаюсь с хорошими, почти безукоризненными по форме стихами, с умом и вкусом, с большой культурной смекалкой, я бы сказал, с тактом; никакой пошлости, ничего вульгарного. Сначала начинаешь сердиться на эту безукоризненность, не понимая, в чем дело, откуда и о чем эти стихи.
Последнее чувство не оставляет до конца. Но и это чувство подавляется несомненной талантливостью автора; дочитываешь, стремясь быть добросовестным; никаких чувств не остается, и начинаешь просто размышлять о том, что же это такое. Автор знает, например, Петербург, описывает его тонко, умно, даже приятно для некоторых людей, которые, как я знаю, поэзию понимают. Однако почувствовать Петербург автор не позволяет, и, я бы сказал, не потому, что он не талантлив, а потому, что он не хочет этого. Что же он хочет? Ничего. Он спрятался сам от себя, а хуже всего было лишь то, что, мне кажется, не сам спрятался, а его куда-то спрятала жизнь, и сам он не знает куда. В стихах всякого поэта 9/10, может быть, принадлежит не ему, а среде, эпохе, ветру, но 1/10 — все-таки от личности. Здесь же как будто вовсе нет личности, и потому — все не подвластно ни критике, ни чувству, ни даже размышлению, потому что не на что опереться, не может быть ни ошибок, ни обратного. Кончаешь свои размышления над стихами Георгия Иванова, уже совсем забыв о нем, думая о том, например, что природа мстит за цивилизацию тонко, многообразно и жестоко, месть эта отражается на невиновных больше, чем на виновных.
Точно так же мстит — и тоже за цивилизацию — и искусство. В первом случае — с Дм. Цензором; человек сказал себе, что он — поэт богемы, и сейчас же получилась нарочитость, повторяемость: слишком велико у него сознание собственной правоты, когда он описывает швейку в мансарде или Маринетти в «Бродячей собаке»; и от этого сознания своего назначения голос, от природы довольно свежий, становится несвежим, посредственным, и все более теряется вероятность, что ему удастся похитить нечто у вечно улетающего искусства.
Так и во втором случае: новая поэзия, то есть теоретики ее, сказали твердо: форма и содержание неразрывны, они — одно; форма и есть содержание, содержание и есть форма; да, это так; но, едва это было произнесено и услышано, появились ряды стихотворцев — и стихотворцев даровитых, — которые как бы ушли в форму и лишились содержания; и проклятый вопрос о «пользе» искусства сейчас опять вырастает с новой силой, с навязчивостью почти шестидесятнической, он становится реальнее с каждым новым появлением поэта, который сказал себе, что форма есть содержание, и тем жестоко обманул себя; не сам обманул, а обмануло его все то же вечно угнетающее и дышащее только там, где оно хочет, искусство, обмануло за то, что он поверил себе и окружающим, что он — поэт, поверил, что «форма неразрывно связана с содержанием».
Вот что роднит глубоко несродных между собой Д. Цензора и Г. Иванова. Они оба обмануты; оба поверили другим; а художник на каждом шагу должен исповедаться перед собой, проверять себя до конца, выворачиваться наизнанку; если этого нет, — не помогут ни наука, ни вкус, ни даровитость — искусство будет улетать; оно не захочет быть там, где больше верят людям, чем самому себе. Слушая такие стихи, как собранные в книжке Г. Иванова «Горница», можно вдруг заплакать — не о стихах, не об авторе их, а о нашем бессилии, о том, что есть такие страшные стихи ни о чем, не обделенные ничем — ни талантом, ни умом, ни вкусом, и вместе с тем — как будто нет этих стихов, они обделены всем, и ничего с этим сделать нельзя. Автор сам ни в чем не виноват, и я не берусь решить, можно или нельзя издавать книги таких стихов. В пользу издания могу сказать, что книжка Г. Иванова есть памятник нашей страшной эпохи, притом — один из самых ярких, потому что автор один из самых талантливых среди молодых стихотворцев. Это — книга человека, зарезанного цивилизацией, зарезанного без крови, что ужаснее для меня всех кровавых зрелищ этого века; — проявление злобы, действительно нечеловеческой, с которой никто ничего не поделает, которая нам — возмездие.
С третьим автором, подлежащим нашему рассмотрению, дело обстоит проще. Мих. Долинов так же хорошо владеет стихом и так же ни о чем особенном не думает, но он не обладает талантливостью Г. Иванова и сильно сдабривает свои стихи пошлецой, что позволяет его разгадать легче; судя по книгам, это — териоккский дачник, имеющий много знакомых и любящий побаловаться стихами разного сорта — от Парни до Игоря Северянина и от Алкеевой строфы до венка сонетов. Издавать его книги нет никаких причин. М. Тумповская и Н. Венгров — для альманаха не годятся.
8 марта 1919
А.Ф. Мейснер. Седьмая и восьмая книги стихов
(Рукописи)
Мейснер — потомок капитана Лебядкина и предок Игоря Северянина: по всякому поводу может сейчас же принять позу, произнести и записать стишок. Сам он признается, что «черный бисер в рубленые строки час за часом падает с пера», и называет это «небрежным перенесением мгновенного напева на бумагу». При этом он сообщает своему верному псу, который на это смотрит, что бьет уже три часа ночи, а он, Мейснер, все еще «сеет бисер палочкой волшебной» и предлагает псу спросить его, зачем он это делает? Пес не отвечает.
Мейснер вдруг родит свой отклик действительно на все и отмечает каждый свой поступок и каждое движение своей души; например: увидит льва в Зоологическом саду, сейчас же обращается к нему в обычном для себя несколько приподнятом задумчивом и философическом тоне:
Печальный, Вы лежите у решетки,
Мой густогривый друг, пустыни вольный царь.
У Вас глаза величественно кротки.
Наступает Фомина неделя, Мейснер опять:
Мне дорога неделя недоверья,
Когда встает скептический Фома.
Люблю того, кто опускает перья
Пред выводом холодного ума.
У Мейснера украли кошелек — он пишет:
В чаду столичного дурмана
Бродил я грустно-одинок —
И незаметно из кармана
Исчез мой плотный кошелек.
В другой раз у него украли бумажник:
Жаль тебя мне, пасынок для света,
В скользкий путь плывущий без руля!..
Вынул ты бумажник у поэта;
Не нашел в нем даже и рубля.
Зажглись звезды — Мейснер пишет:
В стемневшем горном изумруде
Зажглись огни… Торжествен миг.
Я вдруг сказал: «Как жалки люди!»
Сказала ты: «Как мир велик!»
К катающейся на коньках «молодой пани» поэт относится совершенно так, как капитан Лебядкин:
На коньках, в легкой плюшевой шубке,
Вижу грацию запада вновь.
Лебядкин писал:
И порхает звезда на коне
В хороводе других амазонок.
Вот Мейснеру не удалось писать стихи:
В вечерний час мой стих мгновенный
Едва лишь вспыхнут сквозь туман,
Забыв глагол его священный,
Я вдруг пошел в кафе-шантан.
Вот Мейснер философствует:
Летит, летит времен немолкнущий каскад…
Как уловить волны его движенье?!
Разбейте порцию еще на шестьдесят.
Или: