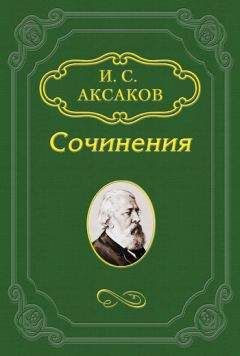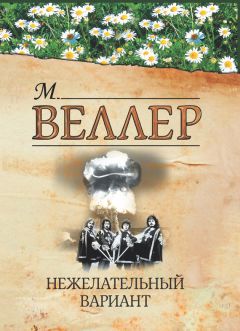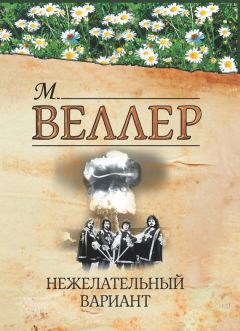Андрей Платонов - Том 8. Фабрика литературы
Кедров ищет в натуре готовую начисто, не допускающую кривотолков улыбку Джиоконды; жизнь его наполняется приключениями, но все наличные улыбки он забраковал и возвратился домой безуспешно, исполнившись творческой горечи. К тому же времени гносеологическая экспедиция в предгорьях Копет-Дага закончила свои работы всемирного значения, и жена Кедрова близка к возвращению.
6-е действие. ОтчаяниеКедров
Нет ничего! У нас в стране хохочут,
А Джиоконды — нет ее!
Вот женщина: допустим, что ее щекочут,
Она ж должна быть рада, а говорит, что ничего.
Я сам улыбку много раз организовал,
Путем щекотки, иль просто так, всерьез,
Но нужной мне улыбки не видал.
Тогда пошел я по дороге слез…
И что ж! Я плачу, а они мне верят
И тоже слезы льют в пустое место, —
Улыбкой Джиоконды их душу не измерить.
Ужли ж им радость возрожденья неизвестна?!
Однако встретил я одну великую девицу,
Но с той лишь надо мужество лепить…
Я, как обычно, ей про то, что в юности ей снится,
Она же мне дала в лицо рукой и не велела говорить.
Кедров идет по улице. Жена его идет под руку с другом Кедрова — очеркистом (он теперь также занимается малыми формами и сценариями). Они уже давно в Москве, Кедров останавливается в удивлении: жену он видит первый раз после разлуки.
Кедров
Уже? Скажите мне ответ!
Друг
Организованно вполне! Привет!
(Любовники проходят дальше. Удалившись, жена Кедрова оборачивается и улыбается бывшему мужу, будучи неглупой и вежливой женщиной).
Кедров (пораженный)
Стой! Обожди — и повтори улыбку:
Ты — Джиоконда, стерва, я тебя искал!
Жена (издали)
Пускай! Я стерва, нимфа, просто рыбка, —
Неужли ты моей улыбки не видал?
Кедров
Ты не стыдись — ведь ваше дело чисто.
Ну, что ж, ты любишь очеркиста,
Я — ваятель — оставлен в стороне…
Жена
Я улыбнусь тебе во сне!
Кедров (вдохновенно)
О, радио! О, птичье гуано!
Искусство свыше нам дано!..
Улыбку я твою народу передам —
Восполнится последняя народная нужда!
Занавес.
Конец.
Пушкин — наш товарищ
Народ читает книги бережно и медленно. Будучи тружеником, он знает, сколько надо претворить, испытать и пережить действительности, чтобы произошла настоящая мысль и народилось точное, истинное слово. Поэтому уважение к книге и слову у трудящегося человека гораздо более высокое, чем у интеллигента дореволюционного образования. Новая, социалистическая интеллигенция, вышедшая из людей физического труда, сохраняет свое, так сказать, старопролетарское, благородное отношение к литературе. Нам приходилось видеть, как молодые инженеры, агрономы и лейтенанты-моряки, сплошь люди рабочего класса, по получасу читали небольшие стихотворения Пушкина, шепча каждое слово про себя — для лучшего, пластического усвоения произведения.
Серьезность их отношения к человеческому духу, к искусству столь же велика, как и к работе на подводной лодке, на самолете, у дизеля, — если не больше. Эти люди не нуждаются в рекомендации Гершензона — читать медленно, чтобы видеть растения поэзии, живущие под толстым льдом поверхностного, равнодушного внимания. Теперь читатель — сам творческий человек, и у каждого есть поле для воодушевленной, поэтической деятельности, ограниченное лишь мнимым горизонтом. Несущественно, что эта поэтическая деятельность заключается не в стихотворениях, а в стахановском движении, например. Существенно, что эта работа требует сердечного вдохновения, напряженного ума и общественной совести.
Сам Пушкин говорил, что без вдохновения нельзя хорошо работать ни в какой области, даже в геометрии. «Писать книги для денег, видит бог, не могу…» — сообщал Пушкин из Михайловского осенью 1825 года. Стаханов тоже не ради добавочной получки денег спустился в шахту в одну предосеннюю ночь 1935 года. Паровозные машинисты-кривоносовцы в начале своей работы следовали своему артистическому чувству машины, вовсе не заботясь о наградах или повышенной зарплате. Наоборот, и Стаханов, и Кривонос, и их последователи могли подвергнуться репрессиям, — и некоторые стахановцы подвергались им, потому что враг, сознательный и бессознательный, темный и ясный, был вблизи стахановцев и посейчас еще есть.
Всегда можно очернить, опозорить передового, изобретательного человека. «Вы путь расшатаете, мы станем навеки!» — говорили отсталые железнодорожники кривоносовцам. «А вы содержите путь по-новому: под высокую скорость и тяжеловесную нагрузку, — как мы содержим паровозы!» — ответили кривоносовцы. Риск искусства художника любого рода оружия — от поэта до машиниста — всегда был. Задача социализма свести этот риск на нет, потому что творческий, изобретательный труд лежит в самом существе социализма. Риск Пушкина был особенно велик: как известно, он всю жизнь ходил «по тропинке бедствий», почти постоянно чувствовал себя накануне крепости или каторги. Горе предстоящего одиночества, забвения, лишения возможности писать отравляло сердце Пушкина.
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
Но, предчувствуя разлуку,
Неизбежный, грозный час,
Сжать твою, мой ангел, руку
Я спешу в последний раз.
Но это горе, возникнув, всегда преодолевалось творческим, универсальным, оптимистическим разумом Пушкина; это было видно и в предыдущем стихотворении («Сжать твою, мой ангел, руку») и особенно в следующем:
Гордись, гордись, певец;
А ты, свирепый зверь,
Моей главой играй теперь:
Она в твоих когтях.
Но слушай, знай, безбожный:…
Ты все пигмей, пигмей, ничтожный.
И самый враг, «свирепый зверь» Пушкина — едкое самодержавие Николая, имевшее поэта постоянно на прицеле, — вызывал у Пушкина не один лишь гнев или отчаяние. Нет: пожалуй, еще больше он смеялся над своим врагом, удивлялся его безумию, потешался над его усилиями затомить народную жизнь или устроить ее впустую, безрезультатно, без исторического итога и эффекта. Зверство всегда имеет элемент комического; но иногда бывает, что зверскую, атакующую регрессивную силу нельзя победить враз и в лоб, как нельзя победить землетрясение, если просто не переждать его.
Понятно, что самодержавие внешне как будто мало походит на «землетрясение», но если 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь вышли одни дворяне, то, значит, самодержавие было еще непреоборимо: оно все же «землетрясение». Известно, кто в действительности справился с самодержавием, не оставив даже праха его.
До сих пор нельзя считать решенным, почему Пушкин не присутствовал на Сенатской площади. Выехав из Деревни в Петербург, он вдруг возвратился обратно, если бы он доехал до Петербурга, он поспел бы ко времени события и, конечно, появился бы на площади, хотя бы из чувства товарищества, в силу своего храброго и благородного характера. Существуют доказательства, что декабристы сами не привлекали Пушкина к активной роли в движении, отчасти ради сохранения его великого поэтического дара, отчасти из понимания, что Пушкин не годится для их мужественной работы по особенностям своей личности. Это со стороны декабристов. А как думал Пушкин? Считал ли он декабристов — не только по их мировоззрению, но и по их объективному значению, по их связи с исторической судьбой русского народа — вполне подходящими для себя, вполне соответствующими его знанию и чувству исторической жизни России, наконец, отвечающими его, пусть неясной, социальной надежде? Личные отношения с декабристами здесь не в счет. Пушкин знал высокую цену декабристам, но он знал также, что личные качества не всегда служат измерением для исторической стоимости человека.
Это можно доказать на отношении Пушкина к Петру и отчасти к Борису Годунову и Пугачеву.
Мы хотим поставить вопрос, не обладал ли Пушкин более точным знанием и ощущением действительности, чем декабристы. И затем — не играл ли он пассивную политическую роль в декабрьском движении по собственному почину, а его друзья лишь отметили этот факт, поняли его и, объяснив его в соответствии со своим высоким отношением к поэту, вполне согласились с таким поведением Пушкина. Иначе следует допустить, что великий поэт, будучи человеком храбрым, несчастным и гениальным, отказался принять участие в улучшении своей и всеобщей судьбы, то есть оказался человеком, мягко говоря, недальновидным и легкомысленным. А мы знаем, что Пушкин применяет легкомыслие лишь в уместных случаях.