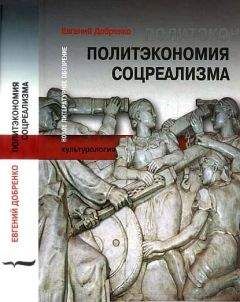Евгений Добренко - Сталинская культура: скромное обаяние антисемитизма
Итак, главное, чего нельзя понять из прочитанного: чего же хотел добиться Сталин своей политикой? В конце книги Костырченко пишет, что «решение еврейского вопроса», «с которым безуспешно пытались справиться сменявшие друг друга режимы в нашей стране как на протяжении XIX, так и почти всего XX веков», произошло «спонтанно и самопроизвольно». И это был попросту… исход евреев (с. 289). Но этого ли, в самом деле, добивалась советская власть, неся невероятные, как сказали бы сейчас, «имиджевые потери» от нежелания выпускать евреев из страны на протяжении всей своей истории? Тут же утверждается, что «сталинская «еврейская» политика ставила во главу угла ассимиляцию» (с. 292). Так и неясно, чего же добивался режим — исхода евреев или их ассимиляции? Одно попросту исключает другое…
Главная проблема, как представляется, в интерпретации мотивов поведения вождя как главной «институции» созданного им режима. Автор называет «дело врачей» «символом саморазоблачительной агонии созданного им диктаторского режима. Уже обреченный и стоящий, как и его творец, на краю могилы, он предпринимал все менее адекватные политико–социальной реальности шаги, пускаясь во имя самостимулирования во все более опасные авантюры, рискуя взорвать общество изнутри» (с. 240). При этом подход автора колеблется в диапазоне от логических объяснений этих акций до признания Сталина к концу жизни невменяемым.
Так, задаваясь вопросом о том, верил ли Сталин в реальность «медицинского заговора», Костырченко отвечает: «Думается, скорее да, чем нет. И вот почему. Имеются многочисленные свидетельства, что к концу жизни диктатора его личность под влиянием общего старения организма, серьезных хронических заболеваний (гипертония, атеросклероз сосудов мозга и др.), постоянных психологических стрессов в значительной мере деформировалась. Боясь выпустить власть из слабеющих рук, он стал малообщительным, крайне подозрительным, в том числе и по отношению к тем, кто входил в его ближайшее окружение, часто бывал вспыльчив, все чаще совершал спонтанные и необдуманные и странные поступки» (с. 261). И хотя, как полагает Костырченко, «сила воздействия диктатора на ближайшее окружение оставалась столь гипнотической, что, даже находясь на краю могилы, он продолжал задавать основные параметры социальнополитического развития страны» (с. 265), он тут же приводит подтвержающие «диагноз» свидетельства близких вождя (от его дочери до Молотова, Хрущева и Шепилова), которые завершаются приговором врача, находившегося при Сталине в последние часы его жизни: тот был уверен, что в последние годы сталинизма «управлял государством, в сущости, больной человек» (с. 262).
Если следовать этой медицинской логике, действия Сталина трудно квалифицировать как политически вменяемые. Однако по этому пути автор дальше не идет и возвращается к вполне «нормальной» системе аргументации, утверждая, что, «несмотря на серьезные проблемы с психическим здоровьем, в Сталине все еще сохранялось присутствие здравого смысла, как и ответственности за судьбу подвластной ему страны» (с. 281), что «масштабы официального антисемитизма, которые имели место в СССР в начале 1953 г., были предельно допустимыми в рамках существовавшей тогда политико–идеологической системы. Дальнейшее следование тем же курсом поставило бы страну перед неизбежностью радикальных политических и идеологических преобразований (легализация антисемитизма, а значит, введение расовой политики, отказ от коммунистической идеологии, освящавшей государственное единство советских народов и т. д.), чреватых самыми непредсказуемыми последствиями. Зверь стихийного антисемитизма мог вырваться на свободу, и тогда страна погрузилась бы в хаос национальных и социальных катаклизмов. Подобная перспектива, разумеется, Сталина не устраивала. И хотя в последние, отмеченные прогрессировавшей паранойей, годы жизни его предубежденность против евреев заметно усилилась, тем не менее, он был далек от того, чтобы выступить против них открыто. Вождь, ревностно оберегавший свой революционный имидж большевика–ленинца, был обречен переживать муки психологической амбивалентности, которая, возможно, и ускорила его конец» (с. 272). В качестве примера такой «амбивалентности» Костырченко приводит описанный Хренниковым эпизод конца 1952 г., когда, в последний раз появившись на заседании комитета по премиям своего имени, Сталин неожиданно для присутствовавших заявил: «У нас в ЦК антисемиты завелись. Это безобразие!» (с. 272).
Ясно, однако, что сталинская система идеологических координат была настолько гибкой, что она вполне включила бы в себя легализацию расовой политики (да и вообще какой угодно политики!): словесная эквилибристика, мастером которой был сам Сталин, и называние черного белым были настолько отработанной техникой его идеологической машины, что они без труда объяснили бы соответствие даже массовой депортации евреев «принципам марксизма–ленинизма и пролетарского интернационализма». Для этого была готова целая армия пропагандистов со Старой площади. Что же до сталинского «революционного имиджа большевикаленинца», то если этот «имидж» не мог поколебать даже 1937 г., когда Сталин уничтожил почти всех «большевиков–ленинцев», то он вполне бы сохранился при любой политике в отношении евреев. Пример же, приводимый Хренниковым, — классический образец сталинского лицедейства. Точно так же он выступил до этого в той же аудитории (на заседании Комитета по Сталинским премиям) против раскрытия псевдонимов (случай, о котором вспоминал Симонов), заявив, что это антисемитизм. При этом, как показывает сам Костырченко, Сталин и стоял за этой «дискуссией», а выступил публично против потому, что «как и прежде предпочитал расправляться с обладателями псевдонимов тихо и без пропагандистского шума, посредством негласной чистки и ночных арестов. Подобная метода помогала ему сохранять в глазах интеллигенции реноме справедливого руководителя, противника национальной нетерпимости» (с. 227). Так что «имидж» здесь не пострадал бы все равно.
Если эти объяснения Костырченко кажутся спорными, то его указание на то, что вождь был якобы «обречен переживать муки психологической амбивалентности, которая, возможно, и ускорила его конец» (в другом месте он говорит о его «идейной амбивалентности» (с. 281)), представляется просто неверным. Сталин давно не переживал никаких «мук», и уж точно — по поводу каких‑то идеологических химер, каковыми давно стали для него коммунизм, марксизм, интернационализм и тому подобные материи, которыми он манипулировал, как хотел. Абсолютно беспринципный и аморальный политик с ментальностью уголовника, циничный и хладнокровный убийца (достаточно прочитать у Костырченко страницы, где описывается его руководство «акцией по устранению Михоэлса» или его кровожадные требования пытать врачей, применяя самые изуверские методы «ведения следствия»), Сталин был далек от «мук». Вообще психологизация Сталина у Костырченко часто кажется не вполне убедительной.
Так, он не раз повторяет мысль о «псиxoлoгичecкой дeгpaдaции дряхлеющего Cтaлина», о том, что «значительную роль в резкой антисемитизации власти сыграла деградация личности Сталина. В старости у него заметно обострилась паранойя, ему повсюду стала мерещиться американосионистская опасность» (с. 281). Не уверен, однако, что подобная психологизация диктатора приведет нас к ответу на вопрос о мотивах его политики, да и тема «деградации личности Сталина» кажется странной: как показывают все серьезные биографы Сталина, деградация этой личности произошла задолго до борьбы с космополитами, задолго еще до уничтожения миллионов людей в ходе коллективизации и своего окружения в ходе развязанного им Большого террора, задолго даже до революции. Сталин был, как известно, не простым «эксом», но одним из руководителей «эксов», по сути, это был хладнокровный убийца и закоренелый бандит задолго до революции. Так что размышления о «деградации» его личности увели бы нас слишком далеко в прошлое.
Специфика послевоенной антисемитской кампании в том, что в ней сплелись политика (как внутренняя, так и внешняя) и культура (поскольку в центре оказались деятели искусства и науки), аппаратная борьба за власть и национальный вопрос. Сказать, что здесь доминировало, трудно. Ясен, однако, общий знаменатель, точно сформулированный в книге: «В условиях послевоенного усиления глобальной интернационализации в мире в СССР, по сути, закреплялся курс на еще большую изоляцию страны, в чем проявилась защитная реакция режима на жесткий культурноцивилизационный вызов, брошенный прежде вcero претендовавшими на мировую гегемонию США» (с. 202). Все это требовало усиления мобилизационной риторики, обернувшейся против евреев: Сталин создал «институт целенаправленных и систематических антиеврейских кадровых чисток, что практически означало негласную легитимацию антисемитизма как официальной политики» (с. 212).