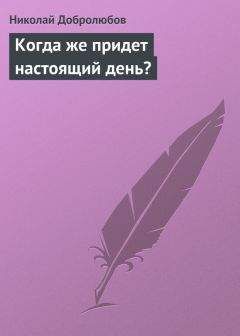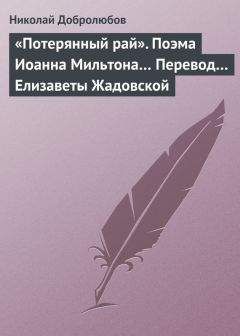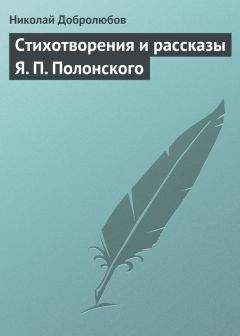Н Добролюбов - Когда же придет настоящий день
______________
* Фанфаронада (с испанск.) - бахвальство.
Рассказывать ли историю сближения Елены с Инсаровым и любви их? Кажется, не нужно. Вероятно, наши читатели хорошо помнят эту историю; да ведь этого и не расскажешь. Нам страшно прикоснуться своей холодной и жесткой рукою к этому нежному, поэтическому созданию; сухим и бесчувственным пересказом мы боимся даже профанировать* чувство читателя, непременно возбуждаемое поэзией тургеневского рассказа. Певец чистой, идеальной женской любви, г.Тургенев так глубоко заглядывает в юную, девственную душу, так полно охватывает ее и с таким вдохновенным трепетом, с таким жаром любви рисует ее лучшие мгновения, что нам в его рассказе так и чуется - и колебание девственной груди, и тихий вздох, и увлажненный взгляд, слышится каждое биение взволнованного сердца, и наше собственное сердце млеет и замирает от томного чувства, и благодатные слезы не раз подступают к глазам, и из груди рвется что-то такое, - как будто мы свиделись с старым другом после долгой разлуки или возвращаемся с чужбины к родимым местам. И грустно и весело это ощущение: там светлые воспоминания детства, невозвратно мелькнувшего, там гордые и радостные надежды юности, там идеальные, дружные мечты чистого и могучего воображения, еще не смиренного, не униженного испытаниями житейского опыта. Все это прошло и не будет больше; но еще не пропал человек, который хоть в воспоминании может вернуться к этим светлым грезам, к этому чистому, младенческому упоению жизнию, к этим идеальным, величавым замыслам и - содрогнуться потом, при взгляде на ту грязь, пошлость и мелочность, в которой проходит его теперешняя жизнь. И благо тому, кто умеет пробуждать в других такие воспоминания, вызвать такое настроение души... Талант г.Тургенева всегда был силен этою стороною, его повести постоянно производили своим общим строем такое чистое впечатление, и в этом, конечно, заключается их существенное значение для общества. Не чуждо этого значения и "Накануне" в изображении любви Елены. Мы уверены, что читатели сумеют и без нас оценить всю прелесть тех страстных, нежных и томительных сцен, тех тонких и глубоких психологических подробностей, которыми рисуется любовь Елены и Инсарова с начала до конца. Вместо всякого рассказа мы напомним только дневник Елены, ее ожидание, когда Инсаров должен был прийти проститься, сцену в часовенке, возвращение Елены домой после этой сцены, ее три посещения к Инсарову, особенно последнее**, потом прощанье с матерью, с родиной, отъезд, наконец последнюю прогулку ее с Инсаровым по Canal Grande***, слушанье "Травиаты"[*] и возвращение. Это последнее изображение особенно сильно подействовало на нас своей строгой истиной и бесконечно грустной прелестью; для нас это самое задушевное, самое симпатичное место всей повести.
______________
* Профанировать (с нем.) - исказить невежественным, оскорбительным действием, отношением.
** Есть люди, которых воображение до того засалено и развращено, что в этой прелестной, чистой и глубоко нравственной сцене полного, страстного слияния двух любящих существ они видят только материал для сладострастных представлений. Судя обо всех по себе, они вопиют даже, что эта сцена может иметь дурное влияние на нравственность, ибо возбуждает нечистые мысли. Но пусть их вопиют: ведь есть люди, которые и при виде Венеры Милосской[*] ощущают лишь чувственное раздражение и при взгляде на Мадонну говорят с приапической (то есть непристойной. - Ред.) улыбкой: "а она... того..." Но не для этих людей - искусства и поэзия, да не для них и истинная нравственность. В них все претворяется во что-то отвратительно-нечистое. Но дайте прочесть эти сцены невинной, чистой сердцем девушке, и, поверьте, ничего, кроме самых светлых и благородных помыслов, не вынесет она из этого чтения. (Примеч. Н.А.Добролюбова.)
*** Название канала в Венеции.
Предоставляя самим читателям насладиться припоминанием всего развития повести, мы обратимся опять к характеру Инсарова, или, лучше, к тому отношению, в каком стоит он к окружающему его русскому обществу. Мы уже видели, что он здесь почти не действует для достижения своей главной цели; только раз видим мы, что он уходит за 60 верст для примирения поссорившихся земляков, живших в Троицком посаде, да в конце его пребывания в Москве упомянуто, что он разъезжал по городу и видался украдкой с разными лицами. Да разумеется, - ему и нечего было делать, живя в Москве; для настоящей деятельности нужно было ехать ему в Болгарию. И он поехал туда, но на дороге смерть застигла его, и деятельности его мы так и не видим в повести. Из этого ясно, что сущность повести вовсе не состоит в представлении нам образца гражданской, то есть общественной доблести, как некоторые хотят уверить. Тут нет упрека русскому молодому поколению, нет указания на то, каков должен быть гражданский герой. Если б это входило в план автора, то он должен был бы поставить своего героя лицом к лицу с самим делом - с партиями, с народом, с чужим правительством, с своими единомышленниками, с вражеской силой... Но автор наш вовсе не хотел, да, сколько мы можем судить по всем его прежним произведениям, и не в состоянии был бы написать героическую эпопею. Его дело совсем другое: из всей "Илиады" и "Одиссеи"[*] он присваивает себе только рассказ о пребывании Улисса на острове Калипсы и далее этого не простирается. Давши нам понять и почувствовать, что такое Инсаров и в какую среду попал он, г.Тургенев весь отдается изображению того, как Инсарова любят и что из этого происходит. Там, где любовь должна наконец уступить место живой гражданской деятельности, он прекращает жизнь своего героя и оканчивает повесть.
В чем же, стало быть, смысл появления болгара в этой истории? Что тут значит болгар, почему не русский? Разве между русскими уже и нет таких натур, разве русские не способны любить страстно и решительно, не способны очертя голову жениться по любви? Или это просто прихоть авторского воображения и в ней не нужно отыскивать никакого особенного смысла? "Взял, мол, себе болгара, да и кончено; а мог бы взять и цыгана, и китайца, пожалуй"...
Ответ на эти вопросы зависит от воззрения на весь смысл повести. Нам кажется, что болгар, действительно, здесь мог быть заменен, пожалуй, и другою национальностью - сербом, чехом, итальянцем, венгром, - но только не поляком и не русским. Почему не поляком, об этом, разумеется, и вопроса быть не может; а почему не русским, - в этом заключается весь вопрос, и мы постараемся ответить на него как умеем.
Дело в том, что в "Накануне" главное лицо - Елена, и по отношению к ней должны мы разбирать другие лица. В ней сказалась та смутная тоска по чем-то, та почти бессознательная, но неотразимая потребность новой жизни, новых людей, которая охватывает теперь все русское общество, и даже не одно только так называемое образованное. В Елене так ярко отразились лучшие стремления нашей современной жизни, а в ее окружающих так рельефно выступает вся несостоятельность обычного порядка той же жизни, что невольно берет охота провести аллегорический параллель. Тут все пришлось бы на месте: и не злой, но пустой и тупо важничающий Стахов, в соединении с Анной Васильевной, которую Шубин называет курицей, и немка-компаньонка, с которой Елена так холодна, и сонливый, но временами глубокомысленный Увар Иванович, которого волнует только известие о контробомбардоне[*], и даже неблаговидный лакей, доносящий на Елену отцу, когда уже все дело кончено... Но подобные параллели, несомненно доказывающие игривость воображения, становятся натянуты и смешны, когда уходят в большие подробности. Поэтому мы удержимся от подробностей и сделаем лишь несколько самых общих замечаний.
Развитие Елены основано не на большой учености, не на обширном опыте жизни; лучшая, идеальная сторона ее существа раскрылась, выросла и созрела в ней при виде кроткой печали родного ей лица, при виде бедных, больных и угнетенных, которых она находила и видела всюду, даже во сне. Не на подобных ли впечатлениях выросло и воспиталось все лучшее в русском обществе? Не характеризуется ли у нас каждый истинно порядочный человек ненавистью ко всякому насилию, произволу, притеснению и желанием помочь слабым и угнетенным? Мы не говорим: "борьбою в защиту слабых от обиды сильных", потому что этого нет, но именно желанием, совершенно так, как у Елены. Мы тоже рады сделать и доброе дело, когда оно заключает в себе только положительную сторону, то есть не требует никакой борьбы, не предполагает никакого стороннего противодействия. Мы подадим милостыню, сделаем благотворительный спектакль, пожертвуем даже частью своего достояния в случае нужды; но только чтобы этим делом и ограничилось, чтобы нам не пришлось хлопотать и бороться с разными неприятностями из-за какого-нибудь бедного или обиженного. "Желание деятельного добра" есть в нас, и силы есть; но боязнь, неуверенность в своих силах и, наконец, незнание: что делать? постоянно нас останавливают, и мы, сами не зная как, - вдруг оказываемся в стороне от общественной жизни, холодными и чуждыми ее интересам, точь-в-точь как Елена в окружающей ее среде. Между тем желание по-прежнему кипит в груди (говорим о тех, кто не старается искусственно заглушить это желание), и мы всё ищем, жаждем, ждем... ждем, чтобы нам хоть кто-нибудь объяснил, что делать. С болью недоумения, почти с отчаянием пишет Елена в своем дневнике: "О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать! Быть доброю этого мало; делать добро... да, это главное в жизни. Но как делать добро?" Кто из людей нашего общества, сознающих в себе живое сердце, мучительно не задавал себе такого же вопроса? Кто не признавал жалкими и ничтожными все те формы деятельности, в которых проявлялось, по мере сил, его желание добра? Кто не чувствовал, что есть что-то другое, высшее, что мы даже и могли бы сделать, да не знаем, как приняться надобно... И где же разрешение сомнений? Мы томительно, жадно ищем его в светлые минуты своего существования и нигде не находим. Все окружающее, кажется нам, или томится тем же недоумением, как и мы, или загубило в себе человеческий образ и сузило себя до преследования только своих мелких, эгоистических, животных интересов. И так, день изо дня, проходит жизнь, пока она не умерла в сердце человека, и день изо дня ждет живой человек: не будет ли завтра лучше, не разрешится ли завтра сомненье, не явится ли завтра тот, кто скажет нам, как делать добро...